Андрей Тесля. Россия без Украины: трансформация большого нарратива
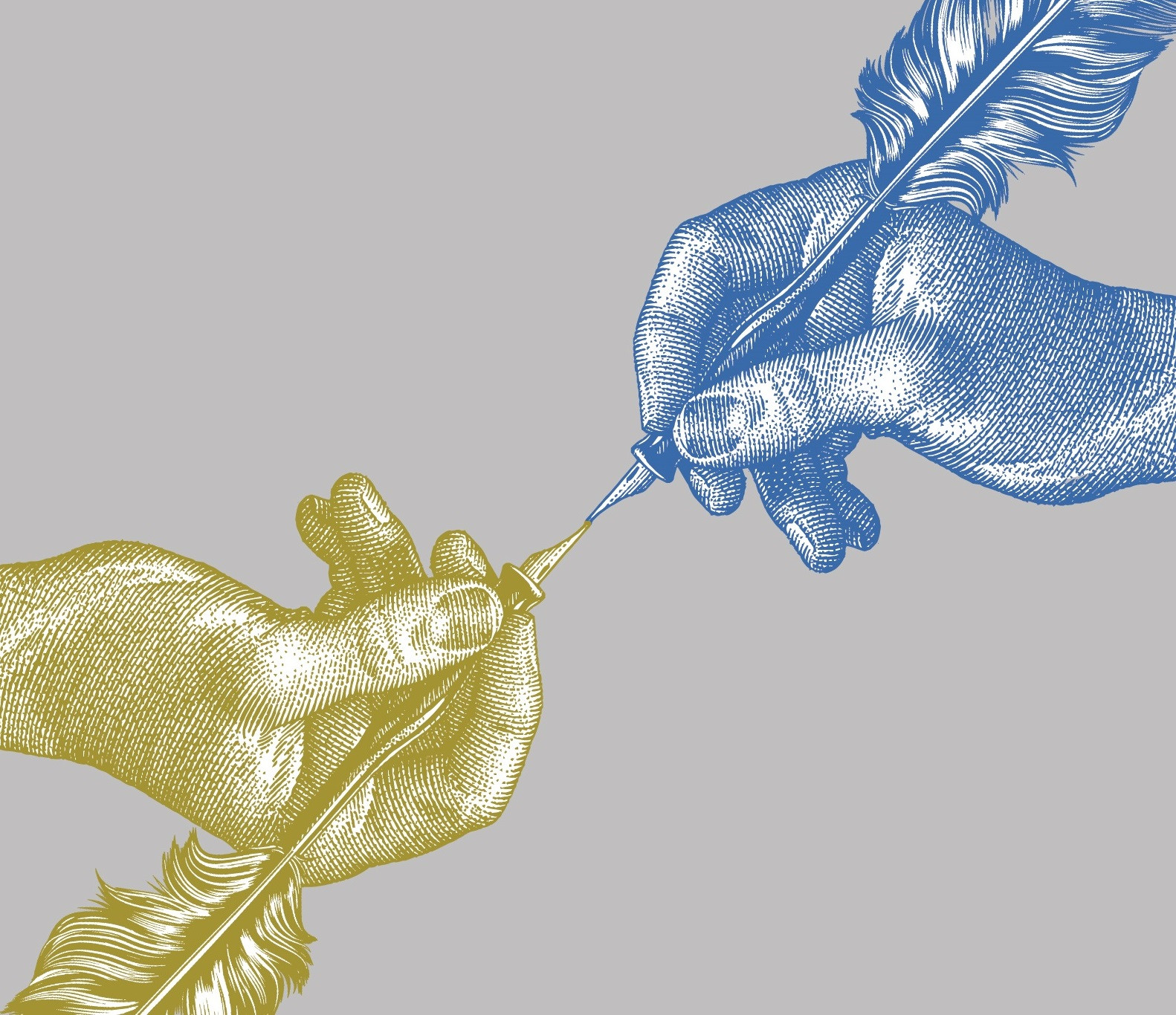
Издательство «Машина времени» публикует ознакомительную главу из готовящегося к выходу четвертого тома «Русских бесед» Андрея Тесли. Авторская многотомная серия ведущего специалиста по русской общественной мысли реализует замысел представить русскую интеллектуальную историю XIX — начала XX в. как полное противоречий и в то же время скрытой гармонии пространство многоголосья, полилога.

О том, как большие исторические нарративы высвечивают актуальную повестку в отношениях между Россией и Украиной и объясняют тупики современного русского/российского национального проекта.
_______
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что автор является историком общественной мысли Российской империи XIX — нач. XX столетий. Этим определяется и мой исследовательский инструментарий, и круг вопросов, который оказывается в центре внимания, — и, вместе с тем, круг вопросов и проблем, которые остаются на периферии или вовсе за пределами видения. Тем самым я никоим образом не претендую на полноту и точность описания и раскрытия современных проблем — целью этого эссе является попытка обрисовать то, как видятся вопросы возможности или невозможности русской/российской идентичности без Украины из моей исследовательской перспективы.
Известно, что (само)конструирование субъекта осуществляется через практики описания и самоописания — на индивидуальном уровне через структуры, например, характеристик и создаваемых в рамках делопроизводства автобиографий. Соответственно, для ответа на исходный вопрос необходимо, в первую очередь, кратко очертить существующие украинские и российские модели помещения себя в историческое время.
Два варианта Украинской истории
Украинская «рамка» историописания представлена в двух основных вариантах:
— во-первых, в «коротком» варианте, наличествующем в «Истории Русов» (конец 1810-х — начало 1820-х гг.) и, например, широко известном в версии Н.И. Костомарова (1817—1885): история Украины в данном случае ведётся с XVI века и во многом отождествляется с историей казачества;
— во-вторых, в восходящем к В. Б. Антоновичу (1834—1908) и его ученику М.С. Грушевскому (1866—1934) удревнённом варианте, прямо противопоставленном последним «обычной» схеме русской истории.

Особенность первой рамки заключалась в её относительно «малоконфликтном» потенциале со схемой русской истории — и в то же время идеологически, с точки зрения образования национального исторического канона, её слабость состояла именно в отсутствии исторической глубины: украинская история представала хронологически «короткой», охватывая лишь события последних столетий, и, кроме того, оказывалась центрирована на днепровском регионе. Тем самым она давала возможность увязать конфессиональную и национальную идентичность, делала ключевым событием национальной истории восстание Богдана Хмельницкого, интерпретируя его как своего рода «религиозную войну», борьбу за веру — и одновременно, очевидным образом, вызывала двоякое затруднение:
— с одной стороны, не давая возможности в ключевом, «образующем» событии украинской истории осуществить противопоставление с Великороссией, — напротив, в этом варианте исторического повествования вхождение под власть Московского государя выступало логичным, закономерным итогом — «объединением» по ключевому критерию, общности веры, тогда как иные — языковая близость, общность исторического прошлого и т. п. — выступали второстепенными, равно как и различия — культурные, политические и т. д. — выступали менее значимыми по отношению к фундаментальному единству;
— с другой стороны, возникали проблемы со включением целого ряда общностей, входящих в состав «воображаемой Украины», в первую очередь Галиции, — в силу различия вероисповеданий (греко-католического и православного). Помимо этого, столь позднее «начало» украинской истории означало сложности с логикой объединения всего этого пространства в качестве единого объекта описания.
«Большая» или, иначе говоря, «длинная» версия украинской истории решала весь этот комплекс проблем, что и обеспечило, помимо прочих факторов, её предпочтительность для украинского национального движения — тогда как «казацкая» история вошла в неё как фаза «национального возрождения», момент «возвращения в историю» (по отношению к конструируемому «золотому веку», в качестве которого выступала история Киевской Руси), — и тем самым можно было опираться на образный ряд, уже тщательно разработанный в рамках иных исторических нарративов; другими словами, задача оказывалась гораздо более лёгкой — не в создании, а в национальной апроприации уже существующих символов.
Таким образом, мы видим, что и «короткий», и «длинный» варианты украинской истории, различным образом позиционированные по отношению к имперской исторической рамке (первый предполагает возможность довольно безболезненного в неё «включения», второй, напротив, радикально ей противостоит), подразумевают возможность автономного существования — что и определяет их в качестве вариантов национального нарратива. При этом «враждебный другой» в них не субстанционализирован — в особенности это относится ко второму, «длинному» варианту: если «короткий», связывающий национальное целое с конфессиональной принадлежностью, тем самым в качестве сущностного противника вынужден избирать иные веры — римский католицизм, иудаизм, ислам, — то «длинная» версия национальной истории не несёт в своей конструкции непременного «врага», таковым оказывается любой субъект, противостоящий национальным целям и задачам Украины, препятствующий их реализации, — но, получается, это ситуативное, а не сущностное определение, позволяющее на протяжении истории изменять статус субъектов в качестве «друзей»/«врагов» реляционно, т. е. в «большом времени» один и тот же субъект может оказываться в разные моменты то противником, то союзником, то вовсе лишаться значимости.
Концепция «большой русской народности»
Русский/российский исторический нарратив, как он сложился с конца XVII столетия, с момента появления «Синопсиса» (1674) Иннокентия Гизеля (ок. 1600—1683), является по существу имперским — и остаётся таковым до сих пор.

Принципиальные изменения историческая рамка претерпела в 1830-е годы, когда сложилась концепция «большой русской народности», вызванная, с одной стороны, подъёмом европейского национализма (и стремлением империи ассимилировать националистическую повестку, вылившимся в доктрину официальной народности), а с другой — необходимостью включить в единое историческое повествование новые общности, отошедшие к империи после разделов Речи Посполитой (северо- и
На практике данная историографическая схема в дальнейшем редко находила столь гармоничное осуществление — преобладающим оказывался во многом продолживший предшествующую традицию (идущую от Гизеля через Татищева и Щербатова к Карамзину) подход, опиравшийся на синтез истории общности («русских») с династической историей — и, следовательно, делающий акцент на истории Северо-Восточной Руси, в рамках логики «трансляции престолов» (аналогичной «трансляции империи»): от Киевского стола к Владимирскому, от него к Московскому — и далее к Петербургу. «История России с древнейших времён» (в 29 томах, выходивших с 1851 по 1879 гг.) С.М. Соловьёва (1820—1879) является ярким образчиком данной схемы и одновременно закрепляющим её текстом (тем более влиятельным, что Соловьёв одновременно создаёт на основе своей фундаментальной «Истории…» целый ряд текстов, предназначенных для широкой публики и для гимназий). В центре повествования оказывается единая история государственной власти — от Новгорода и Киева вплоть до Петербурга, повествование следует за указанной «трансляцией престолов», тогда как прочие сюжеты попадают в центр внимания лишь в связи с первым — так, например, история Южной России освещается ретроспективно в контексте присоединения Малороссии, как объяснение процессов, приведших в конце концов эти земли под власть московского государя.
До некоторой степени «демобилизационный» вариант имперского нарратива представил В.О. Ключевский (1841—1911) в своём «Курсе…» — центр внимания автор стремился сместить с истории власти на историю народа и общества, в первую очередь Великороссии; история России трактуется как история страны колонизируемой, принимающей свой исторический облик в результате хозяйственного освоения, причём руководимого низовой инициативой, уже затем оформляемой государством, и т. д. Впрочем, как отмечали уже ближайшие современники и научные наследники Ключевского, своей собственной исторической концепции он не создал — работая по схеме своего учителя, С.М. Соловьёва, местами демонтируя её, местами существенно меняя акценты, но не предложив ей некоей целостной альтернативы.
Советский вариант нарратива

Советская историческая рамка, сложившаяся в поздний сталинский период (1938—1953), после перипетий первого бурного двадцатилетия, в существенных чертах воспроизводила имперскую схему, наследованную от Соловьёва и Ключевского, вновь провозглашённых классиками отечественной исторической науки.
Изложение «истории СССР» базировалось на двух принципах:
— во-первых, проекции в прошлое наличных в данный момент границ (что отражалось, в частности, в своеобразном названии учебных курсов — «История СССР с древнейших времён», являвшемся, в свою очередь, калькой с названия труда С.М. Соловьёва);
— во-вторых, единым связующим сюжетом оказывалась история политической власти — обуславливая изложение историй народов, входящих в состав СССР, приуроченное к моменту вхождения каждого из них в состав имперского целого, когда давался более или менее подробный экскурс в прошлое, до момента включения, — и в дальнейшем повествование велось в общих хронологических рамках.
Большие нарративы сегодня
Современная преобладающая схема истории России является продолжением имперской и советской историографии — при этом, однако, лишившись как идеологического стержня, присущего дореволюционной имперской истории, так и логики общесоветского нарратива.
И в том, и в другом случае перед нами повествования телеологического и триумфалистского плана — посвящённые изложению становления во времени нынешнего, по отношению к говорящему, состояния, являющегося итогом и целью всего предшествовавшего — и одновременно предвещающего некую дальнейшую, ещё более совершенную перспективу.
При этом в рамках дореволюционного имперского нарратива история «большой русской нации» выступала в качестве сюжетного ядра, а сама эта «нация» оказывалась имперской — прочие общности и территории являлись предметом обладания, господства или взаимовыгодного союза, тогда как данная общность представала в поздних версиях в качестве исторического субъекта, с которым соотносился политический субъект — империя, как выражение первого (т. е., перефразируя Г.Г. Шпета, перед нами субстанциалистская конструкция: «Империя и её собственник»). Советская схема выстраивалась как идеократическая, при этом, однако, предполагая национальную иерархию — теперь уже на смену «большой русской нации» выступали «три братских [восточно]славянских народа», а для русских в качестве их истории выступала общая советская имперская история.
Иначе говоря, при сохранении ныне существующего исторического нарратива в своих основных чертах, образ современной истории России неизбежно оказывается «историей утраты» и «историей поражения», подпитывая, с одной стороны, реваншизм, с другой — стремление со стороны конкретных сообществ отделиться, обособить себя от этого целого, предложив собственные версии самовосприятия, позволяющие выстроить положительный образ будущего, историю восхождения, а не упадка.
В числе этих попыток можно указать, например, на историографические опыты русских националистов — в частности, на «Русскую нацию…» С.М. Сергеева, где последняя предстаёт как жертва империи, история оказывается чередой испытаний и страданий, дающих моральное право на превосходство и одновременно надежду на реализацию собственного национального проекта.
Показательным примером возникающих концептуальных затруднений служат различные трактовки (как можно видеть и из расхождений в официозных заявлениях), которые получает присоединение Крыма:
— либо это частичный имперский реванш, возвращение империи — после периода максимальной слабости начинающей вновь собирать пространство под свой непосредственный контроль;
— либо это воссоединение, опирающееся на логику «русскости» (языковой — или, в ряде уже не официозных, но националистических трактовок, — этнической), т. е. не «продолжение» прежней имперской истории, но одно из ключевых событий истории «России», отграничиваемой тем или иным образом от исторического имперского нарратива и, следовательно, предполагающей более или менее явным образом трактовку «истории России» как части истории Российской империи.
Россия тогда оказывается либо неким объектом, натуралистически обнаруживаемым в составе «большой» имперской истории, либо — исходя из актуальной ситуации — тем множеством, которое становится «зримым» после обретения большей или меньшей субъектности в 1918/1990/1991 гг., и тем самым уже в порядке ретроспективы отбрасывается в прошлое, позволяя найти в нём логику её становления, т. е. действуя по модели «генеалогии».
Таким образом, отвечая из самоописания и самопонимания в исторической перспективе России на вопрос: необходима ли и неизбежна ли Украина для подобного понимания, может ли Россия быть помыслена без Украины, — мы полагаем в свете вышеизложенного, что имперская рамка сама по себе не предполагает Украины как необходимого элемента, — более того, имперская конструкция по существу, именно как динамическая, не предполагает каких-либо территориальных или национальных элементов в качестве незаменимых (примером тому может служить уже сама логика «трансляции империи»).
Более того, примечательным образом, и украинский национальный исторический нарратив в обеих своих основных версиях не предполагает в качестве субстанциального элемента Россию в качестве «врага».
Напротив, русская идентичность как национальная оказывается в радикальном конфликтном взаимодействии с украинским национальным нарративом в любом его виде, поскольку принципиально претендует на часть воображаемого национального сообщества, конститутивного для Украины; более того, для этого варианта воображения политического сообщества конфликтное взаимодействие с Украиной является частью построения национального целого через образ врага и производство национальной мобилизации по модели «негативной идентичности».
Вместе с тем, проблема российской идентичности заключается в ином — в способности радикально перестроить имперский нарратив, предложить иную версию имперской истории, исходя из логики существующего, а не ушедшего в прошлое исторического сообщества, купировать реваншистские угрозы и/или модифицировать восприятие России в качестве сонаследника Российской империи, части большого имперского пространства — то есть «выделить» из большого исторического нарратива некое повествование о России, как один из сюжетов, обладающий самостоятельной логикой.
Фундаментальным затруднением на этом пути является необходимость для имперского целого отнесения к трансцендентному — империя подразумевает, в отличие от национального сообщества, некий универсальный принцип объединения, который не может быть предложен в рамках решения каких-либо прагматических задач. Имперское целое может достаточно долго существовать с «отсечённым трансцендентным», по инерционной модели — поскольку сложившиеся связи и привычные способы самоопределения переживают ту логику, на которой они в своё время выстраивались и, более того, могут стать (как, например, случилось в Советском Союзе по отношению к Российской империи) основой для конструирования новых смыслов, сложным образом модифицирующих исходные, — однако для того, чтобы эти новые смыслы стали возможны, потребно новое имперское видение, которое является производным от сочетания ресурсов и целеполагания, пафоса действия, подкрепляемого достигаемым результатом. И именно возможность этого нового целеполагания, выходящего за пределы прагматики и меняющего саму рамку прагматического действия, в современной ситуации более чем сомнительна — а инерционный сценарий оказывается подчинён логике утрат и частичных реставраций.

