Беседа о "Тысяче плато"
С удовольствием представляю вашему вниманию перевод интервью Жиля Делёза для издания Освобождение [Libération], которое состоялось 23 октября 1980 года. Предметом беседы стал второй том «Капитализма и шизофрении» под названием «Тысяча плато». Собеседниками философа выступили Кристиан Дека [Christian Decamps], Дидье Эрибон и Робер Маджори [Robert Maggiori]. Круг затронутых тем широк: роль событий и датировок, разорванные хронологии, философия как создание концептов, становление философом, его внезапные встречи с ученым и с артистом, реакция в сфере культуры и способы борьбы с нею, прагматический поворот в лингвистике и диалог философии с наукой, критика метафоры и аналогии, соотношения концепта и строгого научного понятия, открытые системы и
Проводите ваши собственные линии в комментариях, заводите машину войны и приступайте. Приятного чтения!
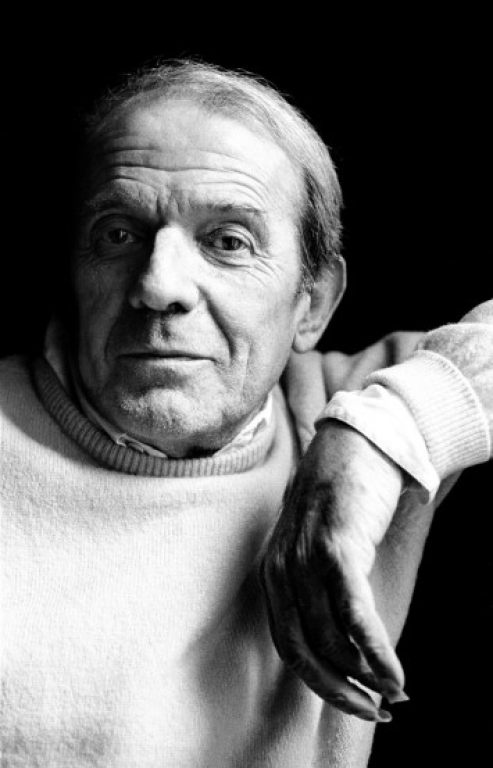
Кристиан Дека: Эта книга адресована не только специалистам, она словно создана с помощью разных композиционных техник в музыкальном смысле слова. Она не разделена на главы так, чтобы некие сущности получали последовательную разработку. Взглянем на содержание. Оно пестрит событиями: 1914, война, но кроме того психоаналитический случай Человека-волка; 1947 — Арто обнаруживает тело без органов; 1874 — Жюль Барбе д’Оревильи теоретически осмысляет новость; 1227 — смерть Чингиз Хана, а 1837 — Шумана. Даты здесь — это события, маркеры, за которыми не стоит никакой хронологии в смысле последовательного развития. Ваши плато полны случайных совпадений.
Жиль Делез: Это похоже на множество колец с прорезями, которые можно друг в друга вставлять. Каждое кольцо, или каждое плато, должно иметь собственный климат, собственное звучание или тембр. Это книга концептов. Философия всегда занималась концептами, философствовать значит изобретать или создавать концепты. Только вот сами концепты многогранны. Их долгое время использовали для того, чтобы определять, что есть вещь (сущность). А мы интересуемся обстоятельствами, в которых она существует: в каких случаях, где, когда, как и т.д. Для нас концепт отныне значит событие, а не сущность. И тогда появляется возможность подходить к философии романтически. Например, концепт ритурнели [муз. термин: то же, что и припев; многократное повторение одной и той же темы] должен сообщать, при каких обстоятельствах у нас возникает желание напевать. Или возьмем другой пример — лица. Мы считаем, что лицо — это продукт, но при этом не все общества его производят, лишь некоторым из них свойственна потребность производить лицо. При каких обстоятельствах она возникает и почему? Поэтому каждое кольцо или плато призвано набросать картину обстоятельств, у каждого из них есть фиктивная датировка, а также какая-нибудь иллюстрация или образ. Это книга с картинками. По правде говоря, нас интересуют такие способы индивидуации, которые больше не сводятся к вещи, личности или субъекту: например, индивидуация отдельно взятого часа в сутках или же некоторого региона, климата, реки или ветра, отдельного события. Возможно, мы напрасно верим в существование вещей, личностей и субъектов. Заглавие «Тысяча плато» отсылает именно к таким индивидуациям, которые не являются ни личностями, ни вещами.
К.Д.: Сегодня книга вообще и философская в частности находится в странном положении. С одной стороны, победно гремят там-тамы, воспевая не-книги, созданные самим духом времени. А с другой стороны, мы становимся свидетелями своего рода воздержания от любых, даже самых незначительных попыток проводить анализ в терминах выражения. Вот, например, Жан Люк Годар утверждает, что важно не выражение [expression], а впечатление [impression]. Философская книга, хотя она и относится к числу сложных, в то же время является очень доступным объектом, такой коробкой с инструментами, которыми можно с легкостью воспользоваться при первой надобности. «Тысяча плато» обогащает знание, но можно ли представить её без того сопутствующего воздействия, которое она оказывает на общественное мнение, без популярности, которая приходит на волне толков, а ведь такие волны еженедельно выносят на берег какой-нибудь очередной «шедевр эпохи»? Если прислушиваться к болтовне распорядителей дня, тогда пропадёт всякая нужда в концептах. Их смоет волна субкультуры, которую нагоняют журналы и обозрения. С институциональной точки зрения, философия оказывается под угрозой. Винсенн, эта удивительная лаборатория, оказывается задвинут на задворки. И несмотря на все это, эта книга, богатая научными, литературными, музыкальными, этнологическими ритурнелями, претендует на то, чтобы дать пример концептуальной работы. Она самим своим действием будто решительно заключает пари, что философия может повториться как опыт весёлой науки…
Ж.Д.: Это сложный вопрос. Прежде всего, философия никогда не была исключительным достоянием профессоров философии. Философ тот, кто им становится, то есть тот, кому любопытно придумывать в той особой области, которую представляют собой концепты. Гваттари — великолепный философ, прежде всего когда речь заходит о политике или музыке. Поэтому вопрос лучше ставить так: каковы место и роль подобных книг сегодня, в данных конкретных обстоятельствах. Несколько лет назад мы вступили в период повсеместной реакции. Нет никаких оснований полагать, что книгам удастся избежать этой участи. Мы погружены в процесс фабрикации литературного пространства, и то же самое происходит в пространстве юридическом, политическом, экономическом, так что в результате они оказываются целиком и полностью реакционными, сфабрикованными, подавляющими. Эти процессы имеют систематический характер, и Освобождению стоило бы их проанализировать. Медиа играют важную роль, но не только они. Очень интересный вопрос. Как сопротивляться возникающему в Европе литературному пространству? Какую роль будет играть философия в сопротивлении этому новому и ужасающему витку конформизма? Сартр сыграл исключительную роль, и его смерть стала чрезвычайно печальным событием во всех отношениях. После Сартра пришло поколение, к которому принадлежу и я, которое оказалось весьма талантливым (Фуко, Альтюссер, Лиотар, Серр, Фай, Шатле и др.). Теперь же, мне кажется, молодые философы очутились в трудной ситуации, но вместе с ними и все молодые писатели, все те, кто сегодня ищет чего-то нового. Над ними нависает опасность быть задушенными заранее. Работать стало очень трудно, поскольку появляется целая система «окультуривания» и подавления творчества, и она свойственна развитым странам. А ведь это гораздо хуже цензуры. Если цензура провоцирует подземное бурление, то реакция стремится сделать невозможным всё. Необязательно, что этот засушливый период продлится долго. Ему особенно ничего не противопоставишь, кроме, пожалуй, сетевого действия в качестве временной меры. Поэтому вопрос, который мы поднимает в «Тысяче плато», таков: вступает ли эта книга в резонанс, схожи ли ее цели с теми, которые ставят перед собой и которых стремятся достичь другие писатели, музыканты, художники, философы, социологи, потому что так мы можем стать сильнее и смелее? В любом случае нужен социологический анализ происходящего в сфере журналистики, анализ его политического значения. Возможно, кому-нибудь вроде Бурдье удастся проделать такой анализ.
Робер Маджиори: Может показаться удивительным, насколько важное место в «Тысяче плато» отводится лингвистике, и можно задаться вопросом, не играет ли она здесь ту же роль, какую в «Анти-Эдипе» сыграл психоанализ? В посвященных ей главах («Постулаты лингвистики», «О некоторых режимах знаков») появляется ряд концептов, например «коллективная сборка высказывания» [agancement collectif d’énonciation], которые пересекают все остальные плато. С другой стороны, ваша проработка теорий Хомского, Лабова, Ельмслева или Бенвениста с легкостью может сойти за ваш собственный вклад, разумеется критический, в лингвистику. И тем не менее трудно отделаться от впечатления, что вас заботит не столько высвобождение новых зон научности, которые могли бы быть вписаны в область семантических, синтаксических, фонематических и прочих «-ических» исследований, сколько опровержение свойственных лингвистике притязаний замкнуть язык на себе самом, когда высказывания [énoncé] соотносят с означающим, а высказывание как процесс [énonciation] — с субъектом. Как в таком случае оценивать значение лингвистики? Речь идёт о продолжении борьбы против диктатуры означающего в духе Лакана, начало которой было положено в
Ж.Д.: Лично для меня лингвистика несущественна. Феликс, будь он сейчас здесь, сказал бы, наверное, иначе. Ведь он стал свидетелем движения, стремившегося преобразовать лингвистику: сначала она была фонологической, затем синтаксической и семантической, но постепенно пришла к прагматике. Прагматика (обстоятельства, события, действия) долгое время считалась выгребной ямой лингвистики, но теперь она становится всё важнее: она отсылает к такому применению языка, при котором единицы или абстрактные константы постепенно утрачивают былое значение. Это современное направление исследований, и оно хорошее, потому что благодаря нему становятся возможны встречи и сотрудничество между писателями, лингвистами, философами, «вокалистами»… (я называю «вокалистами» всех, кто занят изучением звука и голоса в совершенно разных областях: в театре, в песне, в кино, в
К.Д.: Вы отвергаете как метафоры, так и аналогии. Заимствуя у современной физики её понятие «чёрной дыры», вы описываете с его помощью такие области пространства, попав в которые уже невозможно выбраться, а кроме того ваши «чёрные дыры» смежны с понятием «белой стены». Для вас отдельное лицо — это белая стена, испещрённая черными дырами, и именно на этой основе выстраивается то, что вы называете «лицевостью» [1]. Кроме того, вы часто упоминаете нечёткие множества, открытые системы. Ваша близость самым современным областям научного знания вызывает вопрос, чем подобная работа может быть полезной учёным? Не опасаетесь, что они разглядят в ней метафоры?
Ж.Д.: На самом деле, в «Тысяче плато» использован ряд концептов, которые созвучны научным, а иногда даже напрямую им соответствуют: чёрные дыры, нечёткие множества, зоны смежности, римановские пространства и т.д. Тут стоит заметить, что существуют два типа научных понятий, даже если в деталях [concrètement] разница не столь строгая. Есть понятия точные по своей природе и имеющие смысл только как точные понятия: ими философ или писатель может пользоваться лишь метафорически, и это скверный случай, потому что они принадлежат исключительно точной науке. Но существуют также фундаментально неточные понятия, и притом совершенно строгие, без которых учёные не могут обойтись и которые принадлежат одновременно и учёным, и философам, и артистам. Тогда задача в том, чтобы придать им строгость, которая не является в прямом смысле научной, и в таком случае ученый, прибегнув к ним, становится в равной степени философом и артистом. Неопределенность подобных концептов не изъян, а их природа и содержание. Приведу в пример одну недавнюю нашумевшую книгу: «Новый альянс» [2] Пригожина и Стенгерс. Одним из предложенных в этой книге концептов является «зона бифуркации». Пригожин создаёт его, опираясь на термодинамику, в которой он специалист, но это в точности такой концепт, который неразрывно является научным, философским и артистическим. И наоборот: вполне возможно, что философ создаёт концепты, применимые в науке. Так часто случалось. Если взять сравнительно недавний, хотя и позабытый, пример Бергсона, то мы заметим, что он сильно повлиял на психиатрию, и более того он имел прямое отношение к математическим и физическим проблемам римановских пространств. Задача вовсе не в том, чтобы выдумать некое мнимое единство, которое никому не сдалось. Пускай каждый работает так, чтобы возникали неожиданные схождения, обнаруживались новые следствия, эстафета, в которой каждый может принять участие. Ни у кого в этом отношении не должно быть привилегий: ни у философа, ни у ученого, ни у артиста, ни у писателя.
Дидье Эрибон: Несмотря на то, что вы используете работы историков, в частности работы Броделя (про которого, однако, известно, что он тяготеет к пейзажам), по меньшей мере можно утверждать, что вы отнюдь не отводите истории главенствующую роль. Вам ближе образ географа, вы предпочитаете пространство и утверждаете, что следует заняться «картографией» становлений. Не следует ли нам видеть в этом один из способов, которым следует переходить от одного плато к другому?
Ж.Д.: Без сомнения, история очень важна. Но если вы возьмете какую-нибудь исследовательскую линию, она окажется исторической лишь на ограниченном отрезке своего пути, потому что она в равной степени не-исторична, транс-исторична… В «Тысяче плато», «становления» гораздо важнее истории. Эти вещи нельзя путать. Мы, например, пытаемся сконструировать концепт военной машины; он предполагает прежде всего определенный тип пространства, определенный состав людей, набор конкретных технологических элементов и аффектов (гербы и украшения…). Такая сборка является исторической лишь вторично, когда ей случается вступить в чрезвычайно разнообразные отношения с государственным аппаратом. Что же касается самих государственных аппаратов, для нас они соотносятся с детерминирующими их условиями: территорией [térritoire], землёй [terre], детерриториализацией. Государственный аппарат появляется там, где отдельные территории перестают использоваться поочередно и становятся объектом синхронного сравнения (земля) и тем самым оказываются вовлечены в процесс детерриториализации. Так появляется длительная историческая последовательность. Но при любых других условиях мы обнаруживаем, что тот же комплекс понятий распределяется иначе: например, территории в животном мире, их возможное отношение к некоторому внешнему центру, который выступает в качестве земли, процессы детерриториализации космического уровня как в случае с длительными миграциями… Как в романсе: территория, но равным образом земля или Родина [Natal], и снова раскрытие, отбытие, космическое. В этом смысле мне кажется, что та часть «Тысячи плато», которая посвящена повторению, дополняет ту, в которой идет речь о государственном аппарате, хотя у них разные сюжеты. Именно в этом смысле «плато» сообщаются друг с другом. Еще пример: мы пытаемся определить совершенно особый режим знаков, который мы называем «чувственным». В этом случае мы имеем непрерывную последовательность в процессе. Однако этот режим может быть обнаружен и в случае c некоторыми историческими процессами (которые относятся к типу «пересечение пустыни»), он же обнаруживается при иных условиях в изученных психиатрией случаях бреда, а также в литературных произведениях (к примеру, у Кафки). Дело не в том, чтобы объединить все эти случаи каким-то одним концептом, а в том, чтобы, напротив, определить те переменные, которые всякий раз задают его мутации.
Р.М.: «Разорванная» форма «Тысячи плато», его ахронологическая организация, но с опорой на даты, множественность и многозначность находимых в этой книге отсылок, использование концептуальностей, заимствованных из совершенно разных теоретических областей и причудливо соотнесенных друг с другом — все это дает по крайней мере одно преимущество: можно сделать вывод о существовании некоей анти-системы. «Тысяча плато» не образуют горы, а обнаруживают тысячу тропинок, которые, в отличие от троп Хайдеггера, расходятся во все стороны. Анти-система по преимуществу, лоскутная ткань, абсолютное рассеяние — вот они, «Тысяча плато». Однако, мне кажется, что дело обстоит совсем наоборот. Прежде всего, потому что «Тысяча плато», как вы и сами заявляли в журнале Арка [l’Arc] (выпуск 49, новое издание за 1980 год), принадлежит единственному философскому жанру, «философии в традиционном смысле слова»; и потому что, несмотря на её способ подачи, совершенно точно не систематический, в ней проглядывает определенное «мировоззрение», она показывает или приоткрывает нечто «реальное» [réel], в котором можно распознать известное родство с тем, что описывают или пытаются показать современные научные теории. В конце концов, будет ли таким уж парадоксом рассматривать «Тысячу плато» как философскую систему?
Ж.Д.: Нет, вовсе нет. Сегодня можно отовсюду услышать, что системы провалились, что создать систему невозможно по причине разнообразия наших познаний («не в XIX веке живем…»). Это соображение неудобно по двум причинам: считают, что серьезная работа — это всегда работа над небольшими сериями, очень локальными и заданными множеством условий; хуже того: самые плодотворные и обширные области отдаются на откуп визионерам, когда любой может наговорить всё, что ему заблагорассудится. На самом деле, системы вовсе не утратили своей жизненной силы. На сегодняшний день в разных областях научного знания, в логике активно развивается теория т.н. открытых систем, которые основаны на интеракциях и в случае с которыми линейная причинность не принимается в расчет, а понятие времени переосмысливается. Я восхищаюсь Морисом Бланшо: его работы вовсе не составлены из крохотных кусочков или афоризмов, это открытая система, которая к тому же задает альтернативное современному «литературное пространство». То, что мы с Гваттари называем ризомой, — это как раз один из случаев открытой системы. Я возвращаюсь к вопросу: что такое философия? Ведь ответ на этот вопрос должен звучать очень просто. Всем известно, что философия занимается концептами. Система — это множество концептов. Открытой система становится тогда, когда концепты начинают соотносить с конкретными условиями, а не с сущностями. Но, с одной стороны, концепты не даны готовыми, они не могут предсуществовать: их нужно изобретать, создавать, и в этом деле ровно столько же изобретательства и творчества, сколько в искусстве или науке. Создать новые концепты, которые были бы по-своему необходимыми, в этом всегда и лежала задача философии. Ведь дело в том, что — и это вторая сторона вопроса — концепты не являются какими-то обобщениями в духе времени. Напротив, они представляют собой единичности [singularités], которые реагируют на самые обыкновенные мыслительные потоки: можно размышлять и без помощи концептов, но как только появляется концепт, начинается настоящая философия. Идеология тут не при чем. И в самом концепте предостаточно критических и политических сил, в нем много свободы. Именно мощность системы определяет, какие способы создания концептов являются правильными, а какие — плохими, какие новыми, а какие — нет, которые из них жизнеспособны, а какие — нет. Ничто не является правильным в абсолютном смысле, все зависит от способа использования, от осмотрительности в применении этих систем. В «Тысяче плато» мы пытаемся донести: невозможно сказать заранее, что окажется правильным (например, гладкого пространства еще не достаточно, чтобы преодолеть борозды или ограничения, а тела без органов — чтобы преодолеть организации). Иногда нас упрекают в том, что мы употребляем нарочито сложные слова, чтобы произвести эффект. Это не просто неприязнь, это идиотизм. Иногда концепт требует для своего обозначения нового слова, а иногда он пользуется привычным словом, придавая ему особенный смысл.
В любом случае я считаю, что философская мысль никогда не играла столь важной роли, как сегодня, потому что вокруг нас устанавливается целый режим, не только в политике, но также в культуре и журналистике, который является оскорблением в адрес любой мысли. Повторю, Освобождению стоило бы заняться этой проблемой.
Д.Э.: Мне бы хотелось вернуться к обсуждению некоторых пунктов. Мы только что касались вопроса о важности, которую вы придаете событию; затем вопроса о том предпочтении, которое вы отдаете географии по сравнению с историей. Каков же статус события в той «картографии», которую вы хотите разработать?
И раз уж мы касались вопроса о пространстве, стоит также вернуться к проблеме государства, которую вы связываете с проблемой территории. Если государственный аппарат учреждает «изборождённое пространство» ограничений, то «машина войны» стремится создать «гладкое пространство» вдоль линий побега. Но вы предостерегаете: гладкое пространство само по себе еще не способно нас спасти. Линии побега не обязательно ведут к освобождению.
Ж.Д.: Это то, что мы называем «картой» или еще «диаграммой», это множество разнообразных и действующих одновременно линий (линии руки представляют собой карту). На самом деле существует множество разновидностей линий в искусстве, но также в обществе, у отдельной личности. Есть линии, которые представляют что-то, и есть абстрактные линии. Существуют сегментированные и несегментированные линии. Существуют линии размерности, но также направленные линии. Можно найти линии, не важно, абстрактные или нет, которые очерчивают некоторый контур, и другие, которые этого не делают. И первые — самые красивые. Мы считаем, что линии представляют собой элементы, из которых складываются вещи и события. Поэтому у каждой вещи — своя география, своя картография, своя диаграмма. То, что даже в случае с личностью представляет интерес, так это те линии, из которых она складывается или которые она в свою очередь каким-то образом сочетает, заимствует или создает. Зачем отдавать предпочтение линиям в ущерб плоскости или объему? На самом деле у линии нет никакого преимущества. Существуют такие пространства, которые коррелятивны разнообразным линиям и наоборот (тут снова могут прийти на ум научные понятия, например «фрактальные объекты» Мандельброта). Линия того или иного типа охватывает данную пространственную и объемную фигуру.
Отсюда вытекает второе ваше замечание: мы определяем «машину войны» как линейное устройство, сооруженное вдоль линий побега. В этом смысле объектом машины войны является отнюдь не война; её объектом является то особое пространство, гладкое пространство, которое она сама создает, занимает и расширяет. Кочевничество [Nomadisme] это именно такая комбинация из машины войны и гладкого пространства. Мы стараемся показать, каким образом и в каких случаях машина войны делает своим объектом войну (в тех случаях, когда государственные аппараты присваивают себе машину войны, ведь изначально она им не принадлежит). Машина войны может быть революционной или артистической в гораздо большей степени, чем военной.
Но ваше третье замечание — лишнее свидетельство против суждений на скорую руку. Можно изучать типологию линий, но из неё невозможно вывести ни их правильность, ни неправильность. Нельзя сказать, что линии бегства обязательно окажутся творчески плодотворными; нельзя сказать, что гладкие пространства лучше, чем пространства сегментированные или изборожденные: как показывает Вирилио, атомная подводная лодка воссоздает гладкое пространство в военных и террористических целях. Картография позволяет лишь помечать траектории и движения, а также рассчитывать коэффициенты вероятностей и рисков. Именно это мы называем «шизоанализом», который есть анализ линий, пространств и становлений. Кажется, что мы одновременно и очень близки, и очень далеки от проблем истории.
Д.Э.: Линии, становления, события… Возможно мы снова вернулись к вопросу, с которого начинали, к вопросу о датах. В названии каждого плато содержится дата: «7000 до Р.Х. — Аппарат добычи», «Нулевой год — лицевость»… Вы говорите: «фиктивные даты», но они всё-таки отсылают к событию, к обстоятельствам, а значит, вероятно, и задают ту картографию, о которой мы говорим?
Ж.Д.: Условная датировка каждого плато ничем не отличается от
Телеграфный стиль имеет одно преимущество, которое связано не только с присущей ему краткостью. Возьмем предложение вида: «Жюль прибыть пять часов вечера». Писать так очень скучно.
Интересно, когда самим письмом удается вызвать чувство неминуемости, чувство чего-то, что вот-вот произойдет или же только-только свершилось за нашими спинами. Имена собственные обозначают силы, события, движения и движущие силы, ветра, тайфуны, болезни, места и мгновения задолго до того, как начинают обозначать личностей. Глаголы в инфинитиве называют становления и события, которые выходят за границы отведенные им наклонениями или временами. Даты отсылают не к единственному и гомогенному календарю, а к видам пространства-времени, меняющимся от случая к случаю… Все это образует сборки высказывания наподобие: «Оборотни изобиловать 1730»… и т.д.
Примечания переводчика:
[1] В оригинале использован неологизм «visagéité», образованный от слова «visage» лицо при помощи суффикса для образования отвлеченных существительных. Мы переводим словом «обличённость», поскольку с одной стороны это слово сохраняет неестественное звучание неологизма, а с другой — параллелизм корней.
Upd.: уже после публикации перевода в сообществе Сигмы Вконтакте Никита Архипов выступил с обстоятельной критикой избранного мной изначально для перевода французского visagéité русского слова обличение-обличённость, предлагая переводить словом лицевость. Среди аргументов, выдвинутых им, один показался решающим: это слово сохраняет не только параллелизм корней и морфологическую структуру оригинала, но и позволяет сохранять единообразие при переводе других терминов Делёза и Гваттари, воспроизводя авторский стиль словообразования. Ценой этому, однако, становятся благозвучие и ряд смысловых нюансов, которые, на мой взгляд, точнее передаются отглагольными существительными обличение-обличённость.
Подробнее см. комментарии к посту:
https://vk.com/feed?section=comments&w=wall-78759902_11135
Также выражаю благодарность Антону Боровикову и Александре Мороз за высказанные соображения.
[2] В русском переводе «Порядок из хаоса».
