По ту сторону утопии
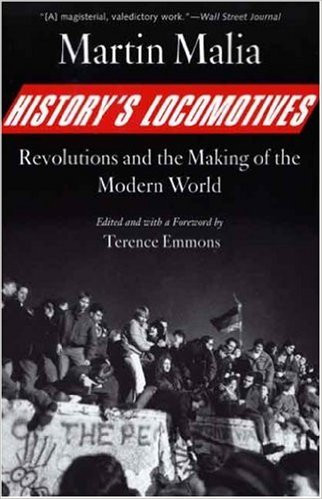
Примерно с месяц назад появился русский перевод последней книги Мартина Малиа, озаглавленной (по воле редактора, Теренса Эммонса) «Локомотивы истории» (пер. с англ. Е.С. Володиной. — М.: Политическая энциклопедия, 2015). Последней она явилась для автора в двух смыслах — и в биографическом, и в плане подведения итогов: всю жизнь занимаясь изучением интеллектуальной истории и предыстории русской революции, в конце своей жизни Малиа подвел личный итог завершенной истории. Поскольку, по его мнению, феномен революции — феномен исключительно «западный», имеющий европейские и христианские основания — нашел свое (возможно, промежуточное) окончание в русской революции.
Логика европейских революций была логикой радикализации — от «ограниченных» прото-/недо-революций к прояснению себя:
(1) переходом от религиозных целей к политическим — и по мере того, как этот переход совершался, религиозное облачение политических целей сменялось quasi-религиозным характером целей собственно политических;
(2) переходом от ограниченных задач, которые независимо от воли участников по ходу революционного движения преобразовывались во все более масштабные изменения политического и социального — к сознательной постановке задачи радикального переустройства общества;
(3) в связи с предыдущим — от «бессознательности» революции, опознающей себя post factum, к революции как цели — никто не готовил «Английскую революцию», никто в 1789 г. не начинал «Французскую революцию», но революции 1848 или Октябрьская революция были именно «задуманными», ожидаемыми — их ждали, к ним готовились, как готовились занять соответствующие роли в революционном спектакле.
Возрастающий радикализм революций предстает результатом одновременно и интеллектуальных ожиданий, с 1789 г. несущих в себе образ предшествующего и готовность не допустить предшествующих ошибок, не дать революции отменить себя, и все большей связанности общества (здесь вспоминаются рассуждения Конта и Спенсера о возрастающей дифференциации общества, делающегося в результате куда более подвижным и взаимозависимым — когда изменения в одной части почти неминуемо производят изменения в других).

Так, о действии, прямо определяемым пониманием предшествующего опыта — стремлении повторить (и одновременно учесть ошибки) предшествующей революции — прямо пишет Бакунин в «Исповеди» (1851), заявляя: «Я желал в Богемии революции решительной, радикальной, одним словом, такой, которая, если б она и была побеждена впоследствии, однако успела бы все так переворотить и поставить вверх дном, что австрийское правительство после победы не нашло бы ни одной вещи на своем старом месте. […] Она бы в самом деле все так переворотила, так бы въелась в кровь и в жизнь народа, что, даже победив ее, австрийское правительство не было бы никогда в силах ее искоренить, не знало бы, что начинать, что делать, не могло бы ни собрать, ни даже найти остатков старого, навек разрушенного порядка и никогда бы не могло помириться с богемским народом». Он сознательно готовился сделать то, что сделала Французская революция и Империя, оказавшись сильнее любых планов реставрации.
Революции не были возможны, пока не существовало модерного государства — с его аппаратом управления, центральной властью, имеющей пространственную локализацию — теми самыми «почтой, телефоном, телеграфом», которыми могут овладеть восставшие и поставить под свой контроль страну — и революция находит свое завершение в
Но если революция 1917 г. становится пределом — то ее завершение в 1991 г. по идее должно стать завершением всякой революции, хотя в заключении Малиа высказывается в том смысле, что данная надежда скорее всего не оправдается. Но независимо от этого революция 1917 г. оказывается финалом «революционного мифа» — о возможности нового начала, о реализуемости утопии. Ведь современное обосновании «революции» (улучшение условий трудящихся, давление на привилегированные слои в целях перераспределения и т.п.) — по самой сути своей «практическое» и
И подобный итог вынуждает вернуться к исходным положениям Малиа — о христианских истоках революции, поскольку вся политика «христианского мира» была связана с «утопией», началом/свершением качественно иного — т.е. была действием в перспективе конца. Тем самым если революция в модерном смысле слова — т.е. не «возвращение в исходную точку», а «новое начало» — осознающая себя возникает в секуляризируемом мире, то конец революции оказывается интерпретируемым как конец христианского мира, точнее — как конец инерционного движения, оставшегося после него.
Собственно, по Малиа единственной удачной революцией оказывается та, которая не знает о себе как о революции — обнаруживая радикальность происшедшей перемены после того, как она совершилась, становясь непредсказуемым последствием действий, имеющих конкретные, ограниченные цели. Революция, знающая о себе, имеет одну возможность спасти себя от неудачи — стать состоянием, а не событием — обратиться в «перманентную революцию», а ее финальное поражение отменяет и саму утопию, утверждая неизменность порядка и отсутствие надежды — прививая искусство довольствоваться наличным в знании о том, что всегда возможно худшее.
Малиа М. Локомотивы истории: Революции и становление современного мира / Под ред. Т. Эммонса; пер. с англ. Е.С. Володиной. — М.: Политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2015. — 405 с.
