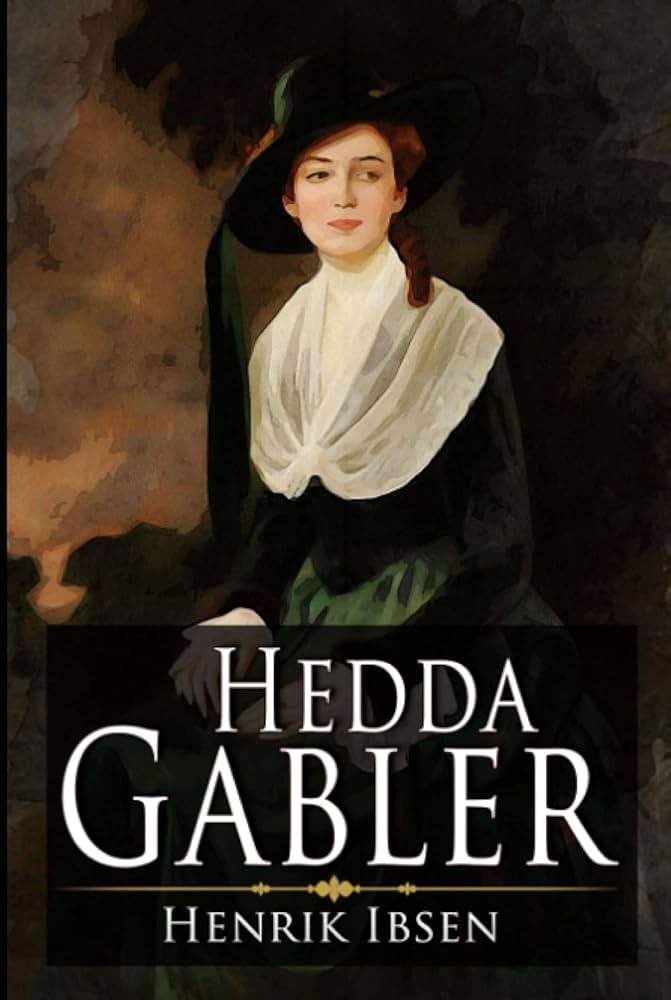Гедда Габлер, или пьеса о сверхчеловекопадении

Насколько мне известно, в творчестве Генрика Ибсена ницщеанские по духу мотивы не являются чем-то спорадичным и нерегулярным, в связи с чем мой дальнейший нарратив будет развёртывается и вращаться вокруг тезиса моей интерпретации о том, что пьеса «Гедда Габлер» является произведением, проблематизирующем «сверхчеловекопадение». Исходом этого сверхчеловекопадения для Гедды является реализация принципа «падающего — подтолкни» и «лучше умереть живым, чем жить мёртвым».
Главная героиня пьесы Гедда — падший «лев», чей дух претерпел эманацию в низшие сферы бытия из-за отсутствия надлежащих условий для необходимой, с превентивной целью от эскалации эманации, сотериологической повседневной практики техник самоконструирования, которая позволила бы реабилитировать, имманентизировать и вознести дух на бывалый или же новый уровень по мере диалектического самовозрастания воли к власти путём сверхчеловеческих пролифераций.
Предыстория отсутствует в самой пьесе, но из диалогов между Эйлертом и Геддой мы узнаём, что между ними когда-то были отношения, которые, весьма вероятно, можно охарактеризовать как «платонические». В рамках этих отношений, которые зиждились, видимо, исключительно или в большей степени на примате духа над материей, они занимались развитием собственных созидательных сил (Эйлерт творчески самоактуализировался, а Гедда вдохновляла его), и располагали той роскошью, которую себе буржуазия позволить себе не может: ригористическая практика добродетелей кристальной честности и откровенности. Для Гедды их отношение были сакраментальными (что видно по игре актрисы в экранизации пьесы, которая играет Гедду, ведь когда Гедда вспоминает об этих отношениях, её дух от идеации возвышенности этих платонических отношений начинает этико-аксиологически благоговеть перед этим, что вызывает у неё слезы «восхищения»). Однако, Эйлерт внезапно решил, как сказала Гедда, «спустить их отношения на бренную землю», то есть, внести в их сакральное профанное. Гедда — романтический персонаж, который презирает мещанское, филистерское, низменное, мирское, рутинное, пошлое, приземлённое, и, естественно, это намерение Эйлерта её откровенно фраппировало и оскорбило. Когда аристократку духа хотят лишить свободы духа посредством превращения её в «рабыню духовки» и «охранительницы очага» (образ персонажа Теа), всякий благородный дух, исходя из собственной калокагатийности и воли к власти, безусловно станет негодовать, ведь подобное является откровенно оскорбительным, и не спроста: заставить возвышенный дух эманировать — это откровенное насилие. Когда подобное Ницше предложил Лу Саломе (выйти замуж и обречь на пошлость и рутинность брачных отношений), то их отношения закончились, потому что она была против брака, расценивая его как порабощение её независимого духа. Так же само и здесь: Эйлерт захотел «спустить её на бренную землю», видимо, из-за давления на его дух материальных обстоятельств, однако Гедда желала пребывать в модусе бытия со свойственным аристократизму духа отвращением ко всякому филистерскому и приземлённому. Гедда разорвала из-за профанных настроений Эйлерта платонические отношения с ним, однако не сумела предать Эйлерта окончательному забвению.
Такова, собственно говоря, предыстория. Но один момент там наиболее интересен. После профанной манифестации регрессирующего духа Эйлерта (желающего найти компромисс между духовным и материальным, ведь капитализм никуда не девался), Гедда захотела, исходя из своего аристократического дерзновения и чести, застрелить Эйлерта за столь неподобающее предложение (помните, как говорил Заратустра о том, что высшие люди являются «великими ненавистниками, что суть великие почитатели»). Однако, она не смогла это сделать, что заставит её сожалеть об этой нерешимости в будущем. Это и является отправной точкой всей последующей эскалации декаданса воли к власти, «сверхчеловекопадения» Гедды Габлер. Интенсивная эскалация эта увенчалась уже тем, что мы наблюдаем на начале пьесы: Гедда потеряла стойкость духа, и дошла до того уровня, что вышла замуж за того самого презренного «последнего человека», «естественного человека», «крота, погрязшего в рутине и пошлости повседневности», «законопослушного гражданина», «мещанина», «буржуа». Правда, это не одиозный карикатурный «буржуй», а представитель класса интеллигенции, однако это не отменяет его «мещанской сути». Это явная детерминанта крайнего упадка воли к власти Гедды. Уже потом Эйлерт спросит: «Как тебя угораздило, Гедда?» (или как-то так, но суть вопроса такова). Мещанизация Гедды обусловлена буржуазификацией Гедды: этот тот самый низменный буржуазный брак по расчёту, в который она ввязалась без аутентичных чувств и мировоззренческой конгениальности двух имманентных микрокосмов с целью тривиального заполучения «крыши над головой» — ради богатства, которым владеет Тасман, чтобы прожить. Мы можем наблюдать, как Гедда постепенно и в соответствии с диалектической прогрессией становится всё менее и менее ригористична в исполнении своих категорических императивов касательно честности и подлинности, которые являются одними из главных добродетелей сверхчеловека (поэтому философия Ницше — анти-буржуазна и анти-филистерская, ведь для извлечения прибыли буржуазному субъекту часто приходится отчуждать себя посредством деморализации, цинизма, конформизма, бегства от свободы, отрицания инакомыслия, совести и всякой высшей добродетели).
Всю пьесу, посредством агонистических манифестаций прежней калокагатийности Гедды, мы можем наблюдать, как её имманентные коллизии в рамках её микрокосма разрывают её дух, который вынужден колебаться между угнетённым актуальным положением («женой», которой светит скоро стать «домохозяйкой», потому что денег на горничную нет, да и товарищей, которые поспособствовали возвышению духа и его реабилитации, тоже нет, а скука и примитивность мещанской жизни обступают со всех сторон) и желанием сохранять прежнюю возвышенность прежнего модуса бытия. Гедда пыталась найти компромисс, из-за чего составила список условий, при которых она согласилась там жить с Тасманом, но ничего не получилось и Гедда начала страдать от всё поглощающей скуки, впадая в отчаяние. Гедда пыталась практиковать сотериологию: (список условий — компромисс): творчеством, созерцанием и добродетелью «спасти» свой эманирующий дух, который стремительно несётся в низшие сферы бытия вместе с Тасманом и его родственниками, но условий таких не оказалось и отчаяние Гедды продолжилось. Проявлением «буржуазности» в самой Гедде, что и позволяет мне говорить о её «сверхчеловекопадении», являются её чрезмерные «собственнические» чувства относительно Эйлерта. В пьесе Гедда, ощущая, что уже давно «не в форме», попыталась, как это зачастую и бывает при агонии, ухватиться отчаянно за последнюю возможность «создать звезду» во имя собственного самоутверджения, а именно: организовать красивую смерть Эйлерта.
Почему в этом я вижу крайнее проявление упадка сверхчеловечности в Гедде? Да потому что она была поглощена наиболее низменным для сверхчеловека: завистью, которая начала вести её к желанию «обладать», привела её к собственничеству — буржуазному чувству, которое ставит своё мнимое самоутверждение и владение выше всего, даже если для этого понадобиться пожертвовать добродетелями и собственным достоинством. Этим и жертвует Гедда. Для того, чтобы организовать смерть Эйлерта, она, как зачастую это и делают мещанские вертопрахи и бонвиваны, убегающие от скуки, начинает вести «игры», в которых вместо аристократки духа со временем всё больше и больше наблюдается двуличное создание, которое во имя собственной мнимой выгоды пойдёт даже на сожжение рукописи — эмпирического носителя воплощённой синергии актов созидания духа, являющегося «источником вещей и призраков». Но что делает Гедда? Её стремление амбивалентно: оно собственническое и при этом романтическое. И эта амбивалентность неудивительна: длительный антагонизм между возвышенным и духовным, как я уже упоминал, разрывает её в клочья, делая её все менее и менее последовательной и всё более и более фрагментированной, словно утопающий, который уже на грани небытия, но изо всех сил пытается ещё в агонии выдавить остатки виталистической энергии, поставляемой проживанием пограничной ситуацией. Так вот, Гедда, узнав, что «верблюд» Теа сумела вдохновить Эйлерта на написание прекрасного произведения, начинает захлёбываться завистью, ресентиментом, который она начинает выплёскивать на неё, хотя и сдержано. Избавиться от ресентимента она хочет посредством «созидания звезды» — увеличения влияния на Эйлерта и желания «владеть его судьбой». Но это не звезда. Гедда ошиблась. Её зависть сподвигла её на абсолютно неприемлемый акт — сожжение рукописи, «уничтожение звёзд», а их уничтожение влечёт за собой лишь мрак, и этот мрак — это кульминация сверхчеловекопадения Гедды. Теперь она, погрязшая во лжи, двуличности, желании иметь, а не быть, желании соревноваться за мнимую гегемонию в убыток духовному, потерявшая дар честности, внутреннюю автономию и конгруэнтность, униженная своей слабостью перед обстоятельствами (ей пришлось соврать Тасману, что она сожгла письмо «во имя любви к нему» — и это было столь низко для неё, что это ярко отразилось на её лице) и прочем — всем этим она предала возвышенный модус любви, которому привержен сверхчеловек — «любви к дальнему».
Любовь к дальнему — это любовь к призракам и вещам, это любовь к объективным, независимым от «воли ближнего» идеалам, ценностям и добродетелям, которым сверхчеловек следует деонтологически, исполняя категорический императив. Сверхчеловек оттого и калокагатийен, что ставит свои добродетели выше кого-либо, не позволяя кому-либо менять его волю и устремление в зависимости от воли какого-нибудь «ближнего». Сверхчеловек понимает, что персонифицированные смыслы — путь к рабству, зависимости и неаутентичности. Он не позволит помыкать собой «ближнему», «верблюду», который может стать на пути к реализации добродетели, категорического императива из-за своей холуйской натуры. Автономный аксиогенезис — это мораль господ, и этика любви к дальнему стоит там во главе угла, субстрата этой парадигмы, потому что лишь «высший господин» может позволить себе быть самопринадлежным, автономным, независимым, полным автаркии и самодостаточным благодаря пылкой романтической приверженности идеалам и ценностям, которые должны воплощаться людьми, созидаться и развиваться, но не порабощаться гетерономиями. В этом «твердость» сверхчеловека. Но есть ли «твёрдость» и «любовь к призракам и вещам» у Гедды? Отнюдь.

Сжигание рукописи и желание «овладеть судьбой» Эйлерта — это не проявление любви к дальнему. Это проявления вырождения «воли к власти», которая теряет своё истинное значение, вырождаясь в тривиальное желание «господствовать» и «доминировать» в смысле авторитаризма. Но сверхчеловек — это благородный дух, а желание господствовать и подчинять кого-то — это холуйские добродетели, мораль рабов, ведь воля к власти сверхчеловека ориентирована на освобождение, как пишет Франк, «на расширение духовного влияния», Гедда же желает тривиальной авторитарности и отсутствия у Эйлерта подлинной воли к власти к преодолению обстоятельств и проявлению самодостаточности. Она прячет рукопись и пользуется отчаянием Эйлерта, чтобы подтолкнуть его к самоубийству. Вместо вдохновения на возрастание воли к власти (принцип Amor fati и самопреодоление), мы видим, что Гедда озабочена лишь собственным безперспективным (потому что он себя убьёт, хорошо, а дальше? Рутина продолжит её поглощать) самоутверждением уже вырожденной и «вульгарной» фашистской «воли к власти» в адлеровском понимании. Гедда предала «любовь к дальнему», ведь, например, идеал духовной свободы (то есть, духовной свободы Эйлерта) для неё стал неуместным, ведь он мешал овладеть им, она желала владеть «человеком» в убыток «вещам и призракам» — рукописи. Сверхчеловек, ставя выше именно «призраки и вещи», пытался бы сохранить эту рукопись, ведь да, ладно, отчаянный Эйлерт может и умереть и пусть будет так — он человек, и это его низменное проявление из-за слабости. Но его дух, его духовное наследие — сакрально, ибо воплощает высшее в человеке — его творческую мощь и глубину микрокосма. Это «достояние» неприкосновенно. Спалить человека — ужасно, но можно. Но спалить источник высших смыслов — никогда. Человек может обесчеловечиться, и тогда перестать быть ценным даже в перспективе, но книга, в которой запечатлены высшие смыслы, перестать быть ценной не может, и уж тем более само содержание ценностей; такая рупосись будет иметь ценность даже в историческом плане. Они, эти смыслы, «квинтэссенция» экзистенциального пути человека и единственное, что достойно внимания. Гедда же «предпочла» эфемерное и низменное, фашистское владение, которое лишь усугубило духовное положение Эйлерта (то есть, она поспособствовала эманации духа Эйлерта, но подобное не есть добродетель, а лишь пособничество регрессу и умножение рабского, что не есть для сверхчеловека поступком чести).
В конце концов, Гедда узнаёт обстоятельства смерти Эйлерта (смерть Эйлерта не было такой, какой Гедда хотела бы её увидеть). В этот момент в сознании Гедды просыпается осознание своей подлинной ничтожности: «Всё, к чему я прикасаюсь, становится пошлым», — говорит она. Она понимает, что даже на созидание такой «фальшивой звезды», как эта, она уже неспособна. Полностью разочаровавшись, поняв свою дальнейшую участь в этом карнавале одномерных мещан и ограниченных последних людей, Гедда понимает, что она упадёт ещё ниже, и решает «подтолкнуть падающего»: берёт револьвер и совершает напоследок воистину благородный, соответствующий «этике любви к дальнему», поступок — стреляет себе в сердце. Дух самопожертвования — это проявления любви к дальнему. Она пожертвовала собой во имя спасения самой себя и других аристократов духа, ведь видеть «обессиленного льва» — это крайне огорчающее зрелище для будущих «львов», которые лишь начинают свой имморалистический путь переоценки ценностей, распятия «скрижалей морали», деконструкции рабского и низменного, приводящего их к творческой эволюции и динамическому созиданию как творческое ничто. Гедда Габлер, как всякое романтическое сердце, желала оставаться преданной духовному модусу бытия. Однако окружающая социально-экономическая формация зиждется на ином. Капитализм если и монетизирует духовное, то часто подобное приводит к вырождению последнего. Именно поэтому, так же само, как и в «Мартин Иден», для того, чтобы иметь возможность вести более возвышенный и благородный образ жизни, нужно изменить социально-экономические условия для этого, потому что капитализм для такой благородной жизни не подходит. Больше всего, на мой текущий взгляд, таковым является именно анархо-коммунизм. А до тех пор, такие, как Мартин Иден или же Гедда Габлер, или всякий другой желающий жить калокагатийно (максимально добродетельно) и созидательно, будут отчуждаться и порабощаться ужасом современного мира — диктатурой гетерономии под названием «капиталистический рынок» с его циничной коммодификацией, овеществлением, массификацией, конформизацией, стадностью и одномерностью; до тех пор модус Dasein «Das Man» будет удерживать гегемонию над модусом «самость», ведь обезличенный, чисто редуцированный к своей функции и механистическому воспроизводству технических способностей субъект будет фрагментирован и отчуждён от себя из-за атомизации, угнетённого положения, классового неравенства и диктатуры гетерономий, а одномерность не будет позволять этически и эстетически трансгрессировать за рамки предлагаемой одномерной массовой культуры. Такие пьесы как «Гедда Габлер» и «Мартин Иден» поднимают вновь вопрос о том, что индивидуализм не «дружит» с правым либертарианством, капитализмом, ведь подлинно возвыщенный дух будет задавлен низменностью буржуазности, мещанства и пошлости, которые вращаются вокруг меркатильного и ограниченного контингента обывателей, порабощённых модусом обладания. Сегодня это и клерки, и современные студенты, и профессора университетов, не только буржуазия. Маркс и тот же Кропоткин подчёркивали, что коммунизм как раз таки и ориентирован на полное и всецельное развитие личности, но буржуазные «мыслители», как Айн Рэнд, как всегда всё подвергли вульгаризации, профанации, и индивидуализм тоже, сведя его к той самой вырождённой «воли к власти»: тривиальному владению. И Гедда Габлер отображает эту логику постепенной регрессии под гнётом внешних материальных обстоятельств, удручающей актуальной констелляции. Но ей хватило смелости не продолжать это всё, и поступок оправдан. Но подобное не должен совершать каждый аристократ духа. Его воля к власти должна помочь ему совершить трансценденцию за рамки актуальной текущей ситуации, позволив своей воле к власти «вырвать себя из царства повседневного опыта» во имя собственного освобождения и дальнейшего нарастания революционной радикальности, ведущей к негативной диалектике и Великому отказу с вектором на дальнейшую реализацию утопического проекта, который позволит использовать ожидающие своей реализации латенции, хранящие содержания о более справедливом и более прекрасно организованном обществе. А пока — лишь эксплуатация и «кастрация» благородных порывов калокагатийного духа, который не может в полной степени себя реализовать, потому что родился не в той семье, или же «вынужден» быть «ублюдком», чтобы держать «бизнес на плаву».
Гедда Габлер не умела жить при капитализме, это видно по пьесе. Всё это было чуждо ей, ведь она жила возвышенным духом, но материальные обстоятельства, которые в свою очередь, надавили и на Эйлерта, заставив его «спуститься на бренную землю», начали давить и на Гедду. Но вспомните слова Заратустры: «И поистине, я люблю вас за то, что вы сегодня не умеете жить, о высшие люди! Ибо так вы живёте — лучше всего!». И Гедда жила «лучше всего», и это «лучше всего» (отношения с Эйлертом) было отличным от того, что было принято «сегодня» (брак и жизнь с Тасманом). Этот брак начал репрессировать Гедду, поэтому, когда она окончательно поняла, что «жить лучше всего», не «как сегодня», уже совсем не получится, и она уже и так начала «поглощаться бездной» из-за длительного «всматривания в неё», она застрелилась, прекратив свои страдания, что можно можно рассмотреть как эвтаназию. Это была последняя благородная манифестация аристократического духа, который не позволил ей умереть как сломленному убожеству, но уйти романтически с пулей в сердце. Гедда Габлер не стала «подчиняться маленькому благоразумию», не была «заботливым человеком», который вопрощает: «Как сохраниться человеку?», ведь хотела «жить свободно» и «превзойти в себе человека», и хотела того же самого для Эйлерта, хотя и противоречила себе сильно в этом желании, на что я уже указывал; она презирала «жалкое довольство» — «счастье большинства», которое воплощалось в Теа и Тасмане — последних людях, от которых её воротило. В целом как-то так.
Напоследок. Какова же возможность для имманентизации духа Гедды? Одной из возможных реализаций сотериологической практики было бы преодоление собственнических чувств Гедды. Например, вместо желания унизить Теу и «овладеть» Эйлертом, она могла бы вместе с ним заняться его творчеством, даже втроём. Теа со временем не смогла бы устоять перед Геддой, и могла бы уйти на второй план, в то время как Гедда, как в «старые времена», продолжила бы заниматься с Эйлертом совместной творческой эволюцией. Возможно, со временем их совместное творчество стало бы приносить им доход, у Эйлерта были идеи (он за короткое время написал две книги), и Гедда могла бы жить более автономно, не впадая в зависимость от Тасмана. Кроме того, вспоминая слова Заратустры о «дарящей добродетели» и о том, что высший человек «ищет другого не для того, чтобы себя обрести, а для того, чтобы себя потерять», и слова Франка о «воли к власти», коооперация с Теа и желание её «осверхчеловечить» было тем самым стремлением к «дарящей добродетели», через которую реализуется возрастание воли к власти как «расширение духовного влияния» на окружающих, из-за чего ты себя тем самым якобы «теряешь», чтобы затем вновь обрести. Это один из вариантов конкретной спасительной практики сотериологии.

И да, прав был Лев Троцкий в своей статье о творчестве Ибсена касательно того, что Ибсен затрагивает вопрос о «революции духа» (за что ему всё равно спасибо), но не о «социальной революции», что мы и можем наблюдать также и в пьесе «Гедда Габлер», ведь Гедда вместо того, чтобы стать «революционным субъектом» на историческом полотне во имя изменения доминирующей социально-экономической формации, убивает себя от отчаяния. Ибсена, таким образом, можно упрекнуть в «апологии» одномерности и резиньяции, что, мол, такое положение вещей преодолимо лишь «эвтаназией». В его нарративе нет места негативной диалектике, «радикальному разрыву со существующим порядком». В этом его недостаток, в том, что он не затрагивает тоже и важные и не менее масштабные, чем человеческий микрокосм и дух, вопросы о социальном устройстве, которые необходимы для индивидуальности для более полной самоактуализации и освобождения от разного рода репрессивного положения вещей, которое и угнетало Гедду или же того самого Мартина Идена. Более идеальное творчество воплощает в себе две важные составляющие: революцию духа и его эволюцию, которая продолжается овладением социального пространства, а не ограничивается лишь исключительно узким полем интимности. Социальная активация собственной калокагатийности для сверхчеловека не менее важна, ведь это ведёт к возрастанию его воли к власти, которая позволяет ему всё более и более масштабировать собственное духовное влияние на окружающую среду, и всё более и более возвышаться посредством полной преданности служению высшим идеалам и ценностям — всё больше и больше быть приверженным «дальнему», «звёздам», жертвуя при участии в революции всем бездуховным, материальным и преодолевая в себе всё «рабское» и низменное, «дух маленького человека», не позволяя себе «довольство большинства» — последнего человека, пребывающего в «поверхностной гармонии» — потреблении на основе примитивизированного гедонизма и эвдемонизма (утилитарность), которые приводят последнего человека, как говорил Маркузе, к такому состоянию: «Утрата совести вследствие разрешающих удовлетворение прав и свобод, предоставляемых несвободным обществом, ведет к развитию счастливого сознания, которое готово согласиться с преступлениями этого общества, что свидетельствует об упадке автономии и понимания происходящего».
«О дивный новый мир» уже наступил, «последний человек» торжествует, а Ницше предвидел это ещё в 19-м веке. Сейчас всё стало только хуже и более ярко выражено.