Демиургия близких миров: апология поэтического как политического
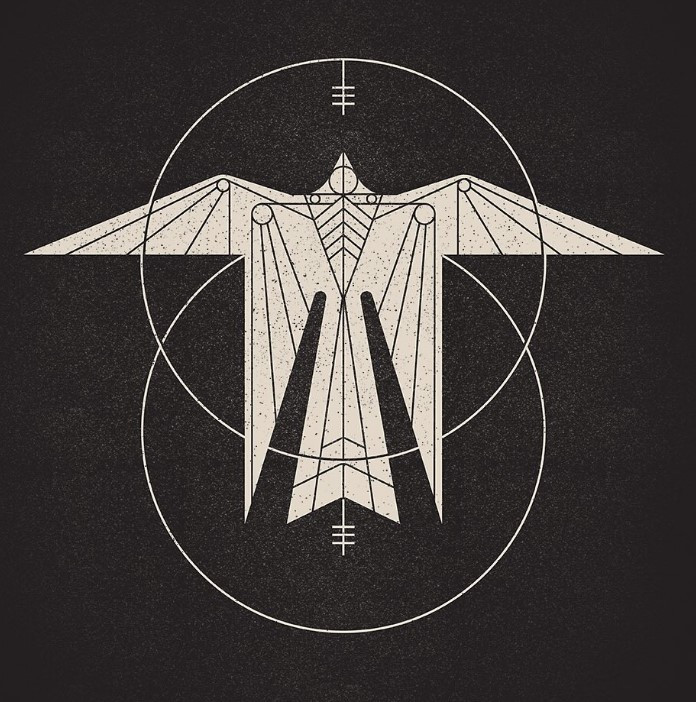
Именование — один из решающих элементов сохранения/утраты аутентичности внутри подвижного хронотопа: от поэтической метафоры до перехвата властью, имена сообщают своим референтам степени истинностной плотности в реальности.
Однако не только люди или события, но также слова и категории обретают в своём пути по-настоящему богатые биографии. Одна из них — категория чуда. Так, чудо философского камня очевидным образом вырастает из восторга перед чудом постижения (тающим, однако, в водах нововременного этатистского забвения); а злонамеренные чудотворцы «ведьмы и колдуны» — лишь наиболее отталкивающий для своего времени образ «вечников-крамольников»[1] — защитников самоуправления, свободы и индивидуальной автономии (которых так долго не могли до конца сломить европейские Левиафаны).
По мере технократического расколдовывания мира чудо как феномен заметно отступает в тень, утрачивая свою методологическую необходимость: отныне философия переосмысляет свои задачи в духе прогрессизма, а для расправ над «вечниками-крамольниками»[2] создаются всё более секулярные и real-политические формулировки. На уровне мейнстримных семиотических рядов фигура волшебника необратимо утрачивает свою значимость: рассохшаяся как старая мебель, она отправляется пылиться на чердак истории.
И хотя сегодня запрос на чудо с очевидностью сохраняется (по-прежнему находя повсеместное выражение в «магическом мышлении» во всех без исключения сферах жизни — прямо посреди технократических потоков современности), — теперь любая фигура, через которую может приходить в мир чудесное, предельно инфантилизирована и как бы преломлена фильтром мультипликационной карикатуризации (неважно, идёт ли речь о волшебниках прошлого, или о чудаковатых демиургах мира науки и искусства).
Декларативно этой фигурой по-прежнему иногда занимают детей, но даже и они больше не принимают её всерьёз: для них чудесное тоже сплющилось в занятные, но бессмысленные поверхности, а чудеса свелись к выученной пресной радости обладания вещами. Предсказуемая техническая «понятность» быстро убаюкивает всех вновь прибывающих в мир, заволакивая их изнутри невыносимой и апатичной скукой. Из её кокона не выйти ни мысли, ни чувству, ни вопрошанию: всё вокруг кажется очевидным и исчерпывающе рассказанным на языке технической инструкции. Но есть одно «но»: из этого непреклонного и патерналистского образа мира совершенно неясно, на что в нём смотреть и зачем вообще в нём быть. Особенно после смерти Бога, переместившей ответственность за смыслополагание на каждого человека в отдельности.
В начале-середине XX века именно в этом зияющем разломе междисциплинарный союз философии и поэзии вдруг инициирует перезагрузку и фигуры волшебника, и волшебства как такового: С. Кржижановский, Б. Пастернак, Г. Башляр, Х. Борхес, Урсула ле Гуин, М. Мамардашвили, Ю. Норштейн и многие другие становятся проводниками новой субъектности волшебника — как того, кто делает «надзрезы» на гомогенной понятности мира, проявляя те его живые потоки, которые не служат никаким из господствующих систем власти, и потому обречены на незримость и бесславность в их гегемонных репрезентациях.
Кто же этот новый [секулярный] волшебник? Прежде всего, любой художник, знающий окольные тропы сквозь утилитарные поверхности мира — за пределы его дозволенных сторон, претендующих исчерпывать в нём возможное и действительное. Одна из его троп проходит через имена и именование — пожалуй, самое главное поэтическое действие всех времён. Осмысляя его в своих «Берлинских лекциях» по философии литературы, Фридрих Китлер обращается к размышлениям Фомы Аквинского о сотнесённости в мире слов и вещей:
«То, что я в согласии с Лютером перевел словом Gleichnisse [уподобления], на латинском называется similitudo; то, что переведено мной как Darstellungen [представления], называется repraesentatio и является косвенной цитатой из «Поэтики» Аристотеля. Repraesentatio буквально означает «делание здесь присутствующим», и у святого Фомы оно поставлено точно в том месте, где должно стоять греческое слово mimesis. <…> Repraesentare означает у святого Фомы то, как можно доказать, что некто (поэт) изображает нечто (к примеру, метафору) для кого-то (слушателя или читателя). Точно так же объясняется использование поэтических образов и метафор в Библии. <…>
Тем самым становится ясным смысл той короткой и упрятанной в скобки фразы, в которой Фома определяет отличие могущества Бога от могущества бренных писателей. Бог может сделать так, чтобы вещи, как, например, древо в раю, означали другое, не то, чем они сами являются; людям же доступно лишь то, что произносимые ими звуки могут обозначать другие вещи, нежели те, что обозначают эти слова. <…>
Поэты делают это, когда цветущий луг называют смеющимся лугом, но лишь Бог есть тот уникальный и единственный поэт, который может свободно обходиться с вещами как с метафорами. <…> Это creation ex nihilo приносит в упомянутый мир (mundus, лат.) и метафоры, которые не остаются просто на бумаге, но даны как сущие столь же в ощущениях, как и «исторически» — Фома Аквинский использует именно это слово. Бог христиан, как вы услышали, тем самым предстает как поэт, поэт непревзойденный и величайший»[3].
Действительно, в классическом смысле чудо всегда связано с творением и трансформациями. В этом смысле волшебником оказывается именно поэт — тот, кто способен преломить мыслимый и ощущаемый образ реальности — не трансформируя, при этом её саму: за это в религиозной картине мира отвечает Бог (а позднее — его заместители на земле — суверены).
Но что, если эта ненарочитая связка демиургического и поэтического и составляет один из главных узлов политического как такового? Хотя бы потому, что именно её (онтолого-)эстетическая перспектива позволяет сформулировать некоторые предельно существенные, но неочевидные и часто упускаемые из внимания критерии свободы/несвободы. Обратимся здесь к одному из ярких эпизодов XX в.
В своих блестящих монографиях «Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии» и «Поэт и царь» Г. Морев осмысляет парадоксальную зачарованность диктатурой даже среди самых свободолюбивых поэтов — на фоне возрастающих репрессий экзистенциальное оцепенение не обходит стороной ни Мандельштама, ни Пастернака. Сталкиваясь с непроглядной логикой Замка, и тот, и другой поддаются искушению интерпретировать случайное и поверхностное как символическое, знаковое и сообщающее новые степени бытия:
«Для Мандельштама было очевидно, что его «помилование» вождём непосредственно связано с официальной идеологией заботы о «мастерах». Возникновение этой отдающей дань «мастерам культуры» и оказавшейся спасительной для него идейной тенденции он склонен был объяснять имманентной «настоящим» стихам иррациональной силой, в существовании которой был убежден: «Поэтическая мысль вещь страшная, и её боятся… Подлинная поэзия перестраивает жизнь, и её боятся…» — заявляет он С. Б. Рудакову 23 июня 1935 года в разговоре, имеющем в виду, по нашему мнению, сравнительно незадолго до этого полученное известие об участии Сталина в его деле[4]. <…>. По логике поэта, как она видится нам, если вождь прочитал его оскорбительное стихотворение и оценил его, то новые вещи, написанные после идеологического переворота, тем более заслуживают его внимания. Основной задачей Мандельштама становится установление «необходимой прямой литературной связи с Москвой[5]. <…>
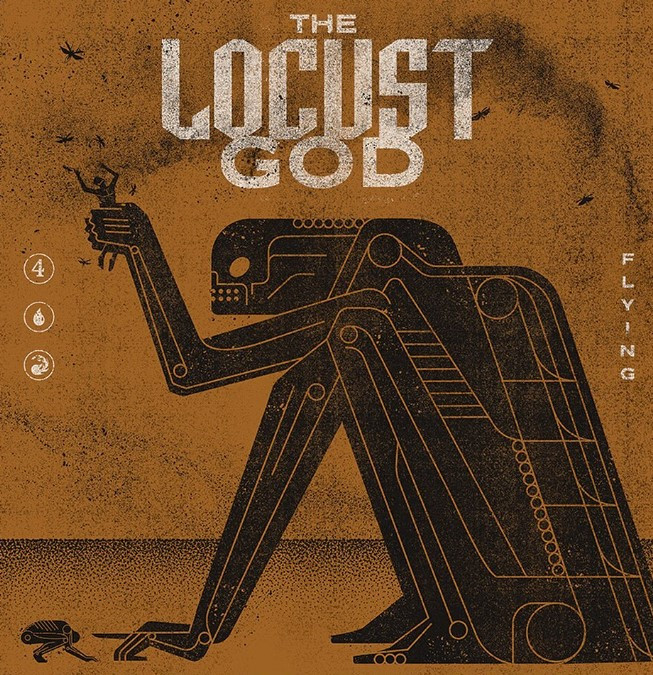
Обращение к сталинской и военной теме происходит на фоне тяжелого душевного состояния Мандельштама — советский социум, к интеграции в который (прежде всего, в лице структур ССП) он так стремится, отторгает его. <…> «Мором стала мне мера моя», — говорит он в стихах, отчуждающих его собственную поэзию ( «И свои-то мне губы не любы» )[6]». Таким образом, «Для Мандельштама «знанье» Сталина о нём, о его стихах, было своего рода приводным ремнем, запускающим не только психологический механизм «нравственного плена», но и работу по созданию новых стихов, «искупающих» «нелепую затею» с антисталинской инвективой»[7], —
заключает Г. Морев в финале очерка о фатальном обмороке Мандельштама. Та же участь постигает и Пастернака:
«Упоминание о «таинственности», которой Пастернак объясняет в письме свою «любовь и преданность» Сталину, возвращает нас к той «тайной» связи между поэтом и вождем, на которую Пастернак ссылался, утверждая свое право писать Сталину «по-своему». Потерпев неудачу при попытке выстроить прямую коммуникацию «о жизни и смерти» в личном разговоре, Пастернак отстаивает теперь существование некоей частной, чтобы не сказать интимной, линии, связывающей его со Сталиным и способной придавать персональное измерение, казалось бы, внешне не связанным событиям <…>. Поэтическую легитимацию эта модель получит в написанных одновременно с письмом Сталину и опубликованных Бухариным в новогоднем номере «Известий» 1936 года стихах «Мне по душе строптивый норов…».
Жертвуя здесь традиционной идеей равенства Пастернак сосредотачивается на образе Сталина как «гения поступка» — им всецело занято внимание поэта, верящего, несмотря на осознаваемую им несопоставимость с вождем, в его знанье и память о нем:
И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.
Как в этой двухголосой фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал»[8].
Г. Морев проницательно вглядывается в генезис этого обморока субъектности, в его сложную каузальность и фактические предпосылки. Для нас же здесь не столь важно, происходит ли эта захваченность Левиафаном и непосредственно фигурой диктатора из этического малодушия, из политический близорукости или из срабатывания защитных психологических механизмов при адаптации к катастрофическому. Куда симптоматичнее в ней неизменность компонента поэтического как прежде всего демиургического. Восторг перед ним был известен поэтам всех времён. Пастернак среди них — не исключение:
«Пошло слово любовь, ты права!
Я придумаю кличку иную!
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую», —
продолжает он размышлять о поэтическом как номинативном уже спустя годы (в гораздо более невинных контекстах). И хотя при этом он далёк от сколько-нибудь артикулированной трактовки номинативного именно как политического, интуитивно он как никто другой приближается к разгадке теологических оснований власти, на которые обращает внимание Ф. Китлер в приведённом фрагменте о Фоме Аквинском: демиургическое свершается и через фигуру Бога, и через фигуру поэта, но Бог творит и видоизменяет сами именуемые вещи, поэт — лишь ткань имён (последнее отчётливо отражено в приведённой строфе любовного стихотворения Пастернака, первое — в его продолжительном безотчётном теологическом оцепенении после звонка Сталина). Таким образом, смутное чутьё подводит здесь Пастернака, с одной стороны, к интуитивному (в духе Штирнера[9]) схватыванию именно теологической природы любой секулярной диктатуры, с другой — к открытию парадоксальной демиургической синхронности между поэтическим и real-политическим (что в некотором смысле выглядит вполне закономерным для поэта Западного мира — столь всерьёз и кратически воспринявшей тезис о Слове как начале всего).

Примечательно, что в этой захваченности Пастернака предстоянием перед великой демиургической фигурой явственно звучит мотив противопоставления — «предельно крайних двух начал». Для него самого речь здесь идёт, по-видимому, именно о real-политическом масштабе фигур (осмысляемом им в мучительном смирении с иерархической космогонией советского мира). Однако акратическая перспектива позволяет разглядеть не менее значимое основание поляризации, ускользающее от внимания Пастернака — материю власти.
Именно она оказывается водоразделом между двумя потоками демиургического — между двумя волшебниками: поэтом и сувереном. Так, поименовывая мир, суверен захвачен теологическим: размещаясь между своими двумя телами [короля[10]], он уподобляется Богу, стремясь лично преобразовать не только ткань имён и образ мира, но и сам порядок материи (в случае Сталина буквально: повернуть реки вспять, переселить/уничтожить целые народы, и т. д.).
Напротив, поэт стоит на земле: он вслушивается в мир как он есть (во всей полифонии его глубинных голосов) и плетёт сеть между ним и обыденностью профанного. В этом смысле чудо, которое поэт совершает как волшебник — раскрытие или высвобождение из незримости тех граней мира и его языков, которые ни для чего не служат утилитарно, но которые способны сделать повседневное переносимым, осмысленным и открытым к человеческой свободе мыслить и творить. Иначе говоря, поэт приносит дары (которые, кстати, вполне можно не принимать), суверен учреждает повсюду свою реальность, полную санкций, тюрем и запретов; поэт прокладывает маршрут глубинного включения в содержательные регистры мира, недоступные кратически опустошённой повседневности; суверен, напротив, как и любая фигура власти — слеп к миру и его порядкам: он увлечён противостоянием им своими собственными законами[11], и все поверхности вокруг стремится превратить в сияющие зеркала.
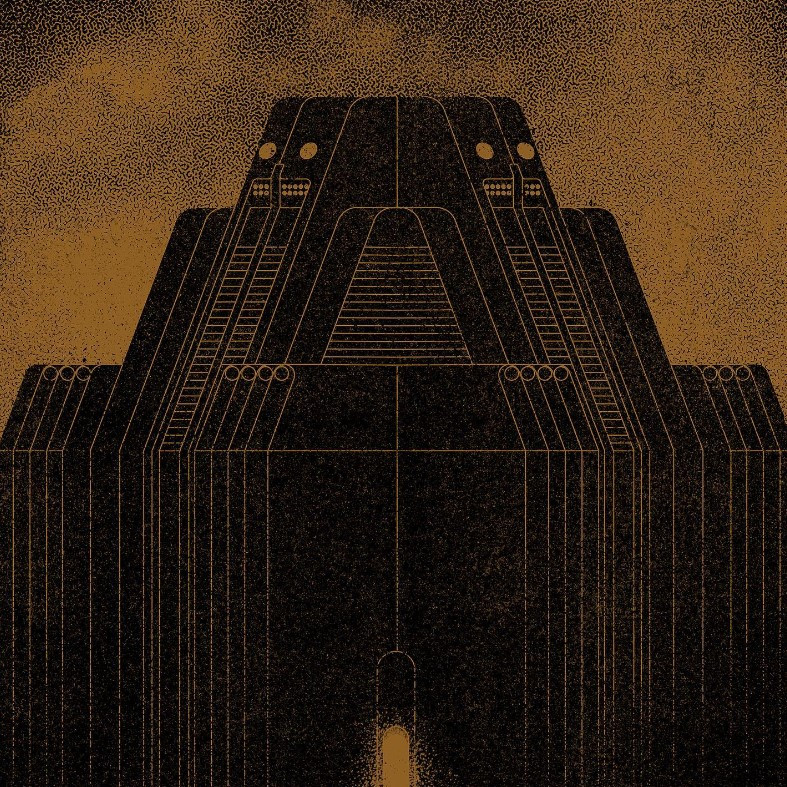
Таким образом, если поэт создаёт связи земных с миром и друг другом, суверен — наоборот, толкает к утрате этих связей: его «реальность» пишется поверх мира живых и без соотнесённости с его внутренним порядком. Это знали волшебники всех времён: от поэтов и сказителей древности до С. Параджанова, Дж. Джармуша или Урсулы ле Гуин (чего стоит здесь её горько-ироничная повесть «Слова для леса и мира одно»!)
Итак, поэтическое демиургично, а демиургическое поэтично. И это по-своему роднит всех демиургов, делая их волшебниками — теми, кто неведомым образом преображает зримую реальность. Однако не менее важно, что при этом демиургическое разнонаправленно: кратическая демиургия [суверена] единолична и заряжена логикой смерти (не это ли роднит всех злых волшебников в истории сказок? И не это ли обнажает оксюморон, лежащий в основе образа «доброго царя»?); акратическая демиургия [поэта] заряжена логикой (со)бытия и (со)участия (не это ли роднит «добрых волшебников» всех времён?)
Такая поляризация демиургического проливает свет не только на его разнонаправленность, но и на фундаментальное противостояние рассматриваемых фигур: исторически, философски, экзистенциально они — главные антагонисты (там же, где поэтическое становится придворным, оно перестаёт быть собственно поэтическим).
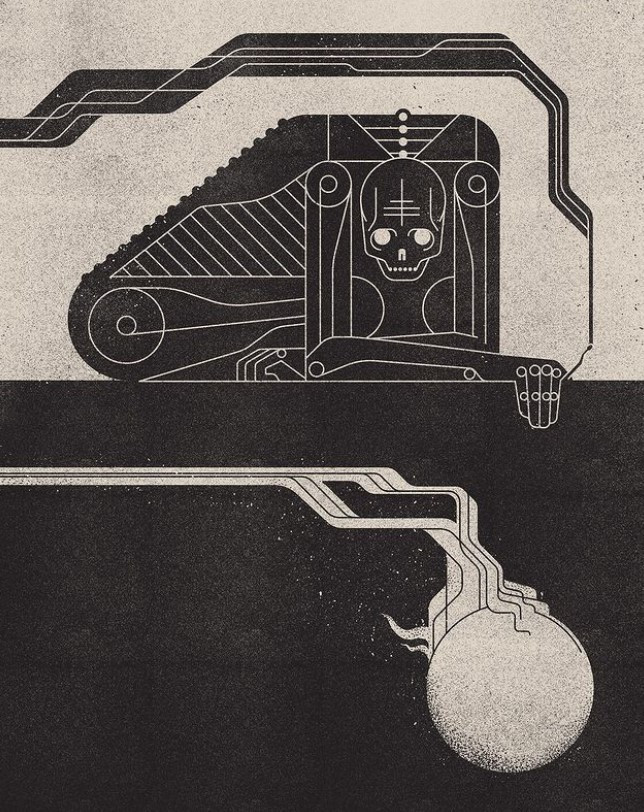
Поскольку основная задача суверена — монополия на образ мира, языки повествования о нём и имена его обитателей, поэт — его заклятый враг, а поэтическое (как система маршрутов акратических связей с миром за пределами теологии государства) — главная угроза его царству. Изгонять, вычищать, вымарывать, забывать поэтическое — такова работа слуг Левиафана — неважно, клерикального или секулярного. В диктатурах она находит выражение в репрессиях и цензуре; в латентно авторитарных системах «либеральных демократий» — в прогрессистском обесценивании и забвении языков, выходящих за пределы повседневности капитала и его бесхитростного быта (издалека эта логика захватывает и многие русскоязычные «независимые» медиа, равняющиеся на этот тренд и — под видом заботы о некоем воображаемом «народе» — ревностно отстаивающие редукцию языка, образности и мысли до условного уровня B2-русского как иностранного).
Однако общим для всех этих сюжетов остаётся одно: во всех них кратическое неизменно борется с поэтическим, оставляя после себя лишь выхолощенную и бесплодную материю пресного языка — языка, способного только «передавать информацию», но никак не будить мысль, воображение и страсть к участию в мире. Похоже, это — одна из причин, по которым политически беспомощными оказываются не только узники артикулированных диктатур, но и декларативно свободолюбивые сообщества за их пределами.
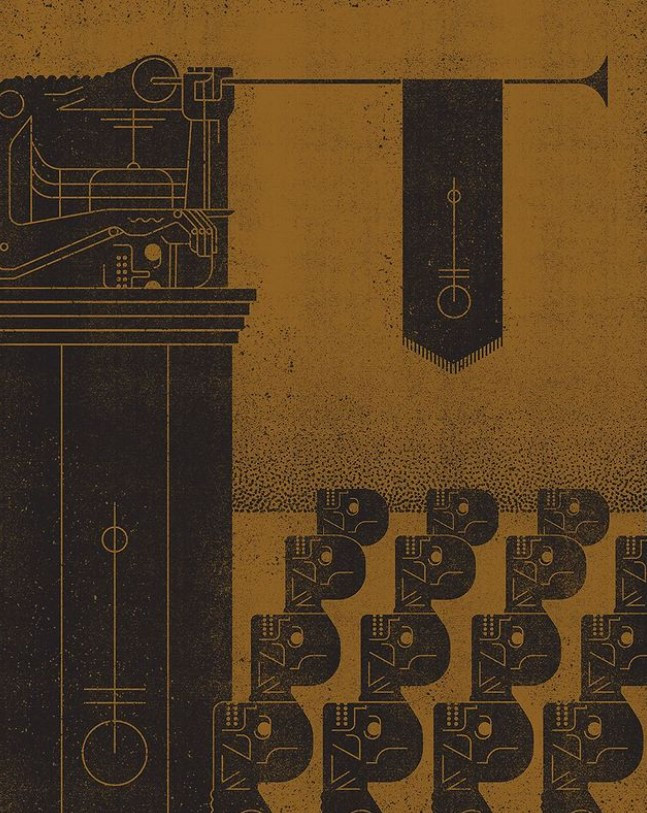
Но как, в таком случае, возможны сценарии деятельного и солидарного участия в мире? И каковы в целом критерии поэтического как политического (в противовес пусть и мыслящему, но смиренному предстоянию перед кратической демиургией Левиафанов)? Ближе всего к ответу на этот вопрос подходит П. Фрейре в своей «Педагогике угнетённых»:
«Человеческое существование не может быть безмолвным, как и не может оно питаться ложными словами, а только лишь правдивыми — теми, с помощью которых люди трансформируют этот мир. Существовать — по-человечески — значит называть мир, изменять его. Как только мир получает имя, он, в свою очередь, заново предстает перед назвавшими его как некая проблема и требует, чтобы они назвали его заново. Люди обретают свою человеческую сущность не через молчание, а через слово, работу и действие-размышление. <…>
Однако диалог не может существовать в отсутствии глубокой любви к миру и к людям. Процесс называния мира, который представляет собой акт созидания и воссоздания, невозможен, если он не основан на любви. В то же время любовь — это фундамент диалога и сам диалог. Таким образом, он неизбежно становится задачей ответственных Субъектов и не может существовать при отношениях доминирования. Доминирование разоблачает патологию любви — садизм доминирующего и мазохизм подчиненного. Поскольку любовь — это проявление отваги, а не страха, любовь означает преданность другим. Неважно, где находятся угнетённые, акт любви — это приверженность их делу, то есть делу освобождения. И эта приверженность, будучи проявлением любви, предполагает диалог. Как проявление храбрости, любовь не может быть сентиментальной; как акт свободы, она не должна служить предлогом манипулирования. Она должна порождать другие акты свободы, иначе это — не любовь. Лишь ликвидировав ситуацию угнетения, можно восстановить любовь, которую эта ситуация сделала невозможной. Если я не люблю мир, не люблю жизнь, не люблю людей — я не способен вступить в диалог. И вместе с тем диалог не может существовать без скромности».
Итак, Фрейре примиряет разделённые в кратическом взгляде евромодерности «называть» и «изменять», устанавливая между ними связь целеполагания: «называть», чтобы «изменять». Это воссоединение делает по-настоящему возможным разрешение проблемы разделённости волшебства на созерцательное и деятельное, где первое исторически достаётся «доброму волшебнику» — знающему мир, но не слишком могущественному, а второе — «злому» — хладнокровно преобразующему мир, но не знающему его. Пожалуй, было бы правомерно назвать этот шаг, во-первых, подлинной эмансипацией чудесного, в которой его экзистенциальное и языковое измерения обретают, наконец, выход к практическому, — и при этом эмансипацией ориентированную на действительность мира; во-вторых — подлинной эмансипацией главного основания чудесного — поэтического: как от редукций к плоско-утилитарным кодам псевдодемократических медиа, так и от храмового языка диктатур с их репрессиями и цензурой, а также от безмолвия в оцепеневшем предстоянии перед ними.

При этом, такое поэтическое не должно быть достоянием лишь избранных волшебников Хогвартса[12] (см.: выдающихся поэтов и гениев) — слабо или никак не связанных с общей реальностью мира как такового. Лишь высвобождение поэтического для всех обитателей мира — как открытия общего доступа к волшебствованию, может послужить, наконец, основанием для создания сообществами подлинно собственных языков, служащих пониманию мира и вдумчивому присутствию в нём. Главная отличительная особенность таких языков — ускользание от систем власти, открывающее маршруты для коллективного поэтического (а потому — подлинно политического) воображения, подобно тому, как это делают племена Зомии, решающиеся на флюидную языковую идентичность ради сохранения собственной автономии и свободы[13]. Такая встреча в языке за пределами его обезмысленных информационных/идеологических суррогатов — важнейшая из подлинных гарантий по-настоящему альтернативного политического бытия; действенная прививка от вируса власти, составляющая одну из ценных сторон антагонизма земных — хищным Левиафанам.
Литература
1. Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. Изд. 2-е, испр. М., 2015. — 754 с.
2. Китлер Ф. Философия литературы: Берлинские лекции 2002». — М.: Московский международный университет. Московская школа нового кино: Издательство Des Esseintes Press, 2023. — 352 с.
3. Морев Г. Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920– 1930-е годы). — М.: Новое издательство, 2022. — 220 с.
4. Морев Г. Поэт и царь. — М.: Новое издательство, 2020. — 128 с.
5. Скотт Дж. Искусство быть неподвластным: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии. — М.: Новое издательство, 2017, с. 353.
6. Штирнер М. Единственный и Его собственность. — Харьков: Основа, 1994. — 560 с.
7. Эпплабаум, Э. ГУЛАГ. — Москва: Издательство АСТ: CORPUS, 2021. — 688 с.
Примечания
[1] Вечниками-крамольниками называли противников становящейся государственности, разрушающей вечевой общественный уклад.
[3] Китлер Ф. Философия литературы: Берлинские лекции 2002». — М.: Московский международный университет. Московская школа нового кино: Издательство Des Esseintes Press, 2023, с. 90-91.
[4] Морев Г. Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920– 1930-е годы). — М.: Новое издательство, 2022, с. 143.
[5] Там же, с. 146.
[6] Там же, с. 160.
[7] Там же, с. 171.
[8] Морев Г. Поэт и царь. — М.: Новое издательство, 2020, с. 36-37.
[9] «Привидение облеклось в плоть, Бог сделался человеком, но сам человек стал ужасающим призраком, который он хочет понять, укротить, сделать действительным, говорящим. Человек — дух. Пусть засохнет тело, лишь бы дух был спасен: все дело в духе, только духовное, только «духовное блаженство» становится единственным предметом забот». Штирнер М. Единственный и Его собственность. — Харьков: Основа, 1994, с. 39.
[10] Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. Изд. 2-е, испр. М., 2015.
[11] Эпплабаум, Э. ГУЛАГ. — Москва: Издательство АСТ: CORPUS, 2021, с. 107, 253 и др.
[12] Школа Чародейства и волшебства Хогвартс — международное учебное заведение волшебников из вселенной «Гарри Поттера», Дж. Роулинг.
[13] Скотт Дж. Искусство быть неподвластным: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной азии. — М.: Новое издательство, 2017, с. 353.
