Никита Сунгатов: Заметки о «коротком списке» Премии Андрея Белого-2015
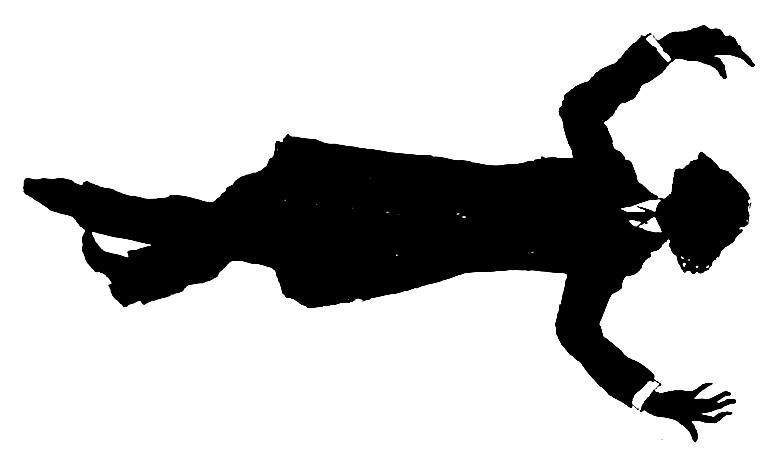
26 октября жюри Премии Андрея Белого объявило «короткие списки» этого года. В поэтический шорт-лист вошли книги «Лосиный остров» Василия Бородина, «В руках отца» Даниила Да, «Советские кантаты» Сергея Завьялова, «Белые бабочки ночи» Яна Каплинского и «Децентрализованное наблюдение» Андрея Черкасова. Все эти книги очень разные, но в каждой из них открывается что-то важное для сегодняшнего дня — об этом я и попробую сказать в нижеследующих коротких заметках.

Имя Василия Бородина известно любому, кто следит за современной поэзией на русском языке. Бородин известен не только как поэт, но и как один из наиболее активных публикаторов молодых авторов на портале «Полутона», и как постоянный автор эссеистических отзывов о других поэтах в журнале «Воздух». Как это часто бывает с поэтами, которые пишут не только стихи, но и о стихах, кажется, что тексты Бородина о других поэтах многое говорят и о его собственной практике (что, впрочем, не умаляет чуткости Бородина к чужим поэтикам). Показательны его отзывы как на стихи молодых поэтов (например, сопроводительное письмо к подборке Марии Фокеевой, номинированной на Премию Аркадия Драгомощенко в 2015 году), так и на стихи старших коллег (например, статья о книге Игоря Булатовского «Стихи на время»). То, что ценно для Бородина в стихах других поэтов можно обозначить как «честная работа зрения»: поэт не должен стремиться за формальной новизной как непременным условием художественной удачи или без раздумий отзываться на те или иные политические и/или культурные тренды, его работа — видеть и честно описывать увиденное, не пытаясь угодить тем или иным институтам или стремясь вырваться вперёд в гонке за символический капитал. Отсюда — у самого Бородина — письмо без надрыва, сознательно недо-умелое (о «нарочитой неискусности» пишет и Алексей Порвин в предисловии к номинированной книге), но и предельно сосредоточенное на самых важных вещах мира и языка. Отсюда же — завидная регулярность письма, вероятно, связанная с тем, что автор не может себе позволить не записать то, что уже увидел или услышал, даже если получившееся стихотворение может оказаться или показаться «хуже» того, что уже было написано.
Кажется, Бородин во многом вырастает из обэриутов и невольно наследовавших им хеленуктов: именно с их именами связано такое сочетание внутренней серьёзности при внешней небрежной лёгкости, как бы насмешливо опровергающее идею о том, что «стихи писать трудно». Парадоксальность этого сочетания, впрочем, мнимая: бесстрашие поэта, по Бородину, оказывается связано не с усилием и надрывом, а с верностью и постоянством.
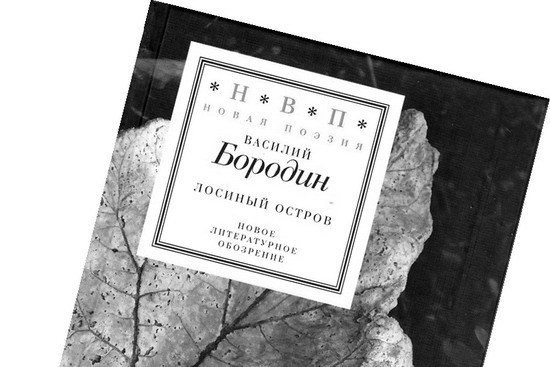
листок сухой ребрист борзой
и падает стуча
и вот глядеть на него час
и следующий час
а вся земля — из карих слёз
на зябнущем свету
и след витой от двух колёс
весь мимо на лету
а там для новых — дуговых —
черт ветра спят поля
сквозными нитями травы
дыша и шевеля

Из вошедших в короткий список Даниил Да, пожалуй, является наименее замеченным на сегодняшний день поэтом. Книга «В руках отца» издана полу-самиздатским способом: её тираж напечатан в частной типографии, а в выходных данных стоит «домашнее» издательство «Humulus Lupulus» (кажется, это первая книга, выпущенная этим издательством). Редкие публикации автора выходили в «Воздухе», часть стихов разбросана по Сети, найти их можно преимущественно в ЖЖ поэта.
Это единственная книга в коротком списке, почти все стихи в которой имеют строгую метрическую организацию (в сравнении, например, с расшатанным стихом Василия Бородина). Когда современный поэт обращается к
Часто это стихи о местах — в них постоянно встречаются разнообразные топонимы, иногда вынесенные и в название («Крым», «Кавказ», «Европа»). И, как регулярный стих неразрывно связан теми классическими стихотворениями, которые были на нём написаны, так и места несут на себе этот отпечаток прошлого: слыша «Кавказ», мы невольно вспоминаем Лермонтова, а слыша «Крым» — Волошина. Даниил Да обращается к местам через возникшие вокруг них «тексты», — не в смысле отдельных стихотворений, а в том смысле, в котором В.Н. Топоров писал о «петербургском тексте», — но акцентирует внимание не на самом культурном коде, с которым связан тот или иной локус, но на тех изменениях и преломлениях, которые в нём произошли и происходят. Так реализуется диалектика старого и нового: вроде бы перед нами старые, давно знакомые поэтические пространства, но их населяют уже другие вещи, герои и события. Во многом это стихи о памяти: так, возвращаясь годы спустя в место, с которым нас когда-то

денечки потянулись темные
и уже близко к четвергу
чу, перья страуса склоненные
в моем качаются мозгу
летят под горку вместе с санками
детей хохочущих прижав
отцы под антидепрессантами
а вечер длинный как удав
сегодня царь какой-то маленький
но хочет чтобы навсегда.
ах, затекла зачем-то в валенки
мои морозная вода
и я лечу, лечу на саночках
зубами мелодичный скрип
выцеживая словно панночка
к сиденью намертво прилип
снуют дружины как иголочки
запели, после — ни
лишь голубые комсомолочки
визжа купаются в снегу

Книга Сергея Завьялова «Советские кантаты» стоит особняком от других книг из короткого списка — прежде всего своим форматом: это не сборник отдельных стихотворений, но цельный текст, состоящий из трёх частей. В основе каждой части лежит одна из советских кантат, написанных в сталинские годы — в первых двух частях это кантаты «К двадцатилетию Октября» (1937) и посвящённая 60-летию Сталина «Здравица» (1939) Сергея Прокофьева, в третьей — «Песнь о лесах» (1949) Дмитрия Шостаковича, написанная на стихи Евгения Долматовского. Каждая часть, в свою очередь, делится на три «голоса»: это текст оригинальной кантаты, текст исторического документа, и речь героя, с которым Завьялов, по собственным словам, себя ассоциирует.
Когда Завьялов читал первую часть на своём вечере в рамках цикла «Igitur» в Москве, некоторые из слушателей поначалу радостно восприняли её как концептуалистский текст, пародирующий советский миф о Ленине. Эта реакция закономерна — Завьялов действительно прибегает к техникам, характерным для концептуального искусства (прежде всего вспоминается даже не Д.А. Пригов, а такие тексты как «Песнь о Ленине» Тимура Кибирова и построенная на коллаже ленинских цитат «Моя маленькая Лениниана» Венедикта Ерофеева). Однако, отношения Завьялова с концептуализмом более сложны, и здесь нужно сделать одно важное замечание. Для современного читателя и Пригов и Сорокин (в тех текстах каждого из них, где они работают с «советским языком») являются разоблачителями тоталитарного советского языка через его объективацию, дистанцирование от него. Однако не стоит забывать о том, что бессознательная травматичная дистанцированность советского поэта от советского языка характерна и для самой поэзии сталинского времени, что убедительно показывает сам Завьялов в своей статье, посвящённой Ольге Бертгольц. Через диалектическое противоречие между исторической истиной революционных преобразований и трагедией сталинской контрреволюции, воплощённой в диктате жёстко нормированного языка и раскрывается глубокая подлинность советской поэзии (ярким примером могут послужить, например, эти стихи Михаила Исаковского, где язык как бы вопреки воле автора сопротивляется тому, что на нём высказывается). Через это же противоречие, но уже сознательно заострённое, Завьялов даёт речь своим героям (старому большевику-рабочему, колхознице-мордовке, умирающему комсомольцу-инвалиду Великой Отечественной войны), к которым новейшая русская поэзия отказалась обращаться иначе, чем через деконструкцию и/или травестию (недавно вышедшая книга Виктора Сержа в переводах Кирилла Медведева, кажется, тоже стремится заполнить собой этот пробел). Это и приговский и
Полноценный разговор о том, в какой степени концептуализм в его «московском романтическом» варианте является естественным развитием советского коммунистического проекта, а не магически возникает как его критика «извне», ещё не состоялся (в качестве редкого примера можно назвать статью Глеба Напреенко «Шиворот-навыворот: московский концептуализм как советское искусство»). «Советские кантаты», среди прочего, невольно поднимают и эту тему, предлагая такой взгляд, где критическая оптика концептуализма, тоталитарный язык сталинского соцреализма и эмансипационный проект революционного авангарда существуют в неразрывном историческом единстве, позволяя расслышать историю, рассказанную, по заветам Луначарского, «голосом самой эпохи».
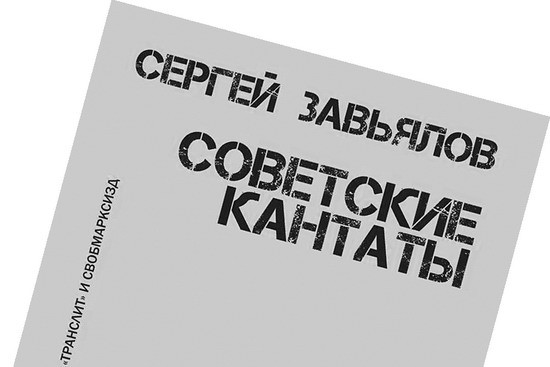
УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН
ЗАВЕЩАЛ НАМ ДЕРЖАТЬ ВЫСОКО И ХРАНИТЬ В ЧИСТОТЕ
ВЕЛИКОЕ ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ.
КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН,
ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!
в твоей кончине товарищ Ленин
начало новой жизни
мы не отдадим тебя смерти
мы не отдадим тебя времени веку капитала
ты будешь среди нас лежать не тлея
как грозное утверждение о том что
смерти нет для пролетариата
восставшего чтоб разрушить
весь мир насилья
самая дикая злоба…
самая бешеная ненависть…
самый бесшабашный поход лжи и клеветы…
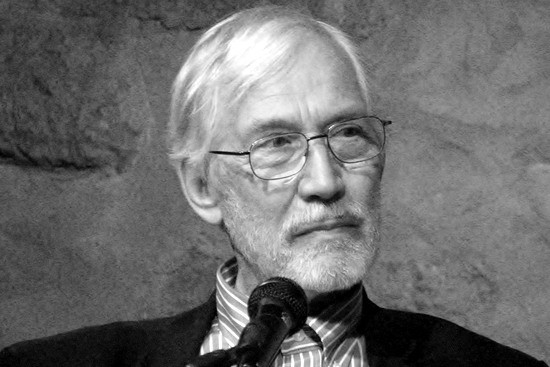
Ян (Яан) Каплинский, классик современной эстонской поэзии, ровесник и собеседник Иосифа Бродского и Томаса Венцловы, в прошлом году издал свою первую книгу, написанную на русском языке. Книга «Белые бабочки ночи» стала большим событием в современной русской поэзии: до короткого списка «Премии Андрея Белого» она уже побывала в
Характерно, что послесловие к этой книге написал именно Сергей Завьялов, хотя в своих книгах они стоят «по разные стороны баррикад» в осмыслении русской революции и (после)революционной культуры. Это послесловие рождает своеобразную диалектическую связь между двумя книгами, как бы напоминая нам: культура тесно связана с историей, и она движется не прямолинейно, а по спирали, и после каждого нового шага в будущее необходимо оглянуться назад.

Воскреснет твердый знак, вернется ять с фитою.
Георгий Иванов
Прошлое отходитъ и будущее течетъ все быстрѣе
сквозь пальцы дни и заботы—тѣни на муравѣ
съ каждымъ днемъ все длиннѣе и чернѣе—близокъ тотъ часъ
когда мнѣ придется сказать одной из тѣхъ тѣней
свои послѣднія слова—это не такъ трудно, но все же
я не увѣренъ что меня поймутъ—хотя я тутъ родился
я родомъ не отсюда я не сдѣланъ ни въ Совдепіи
ни въ Эстоніи—я попавшій не туда подданный
Государя с печальными глазами убитаго далеко отсюда
почти столѣтіе тому назадъ—закрывая глаза
я слышу что-то
залпы лозунги пѣсни молитвы заклинанія
сквозь шумъ водоворота исторіи уносящаго насъ
вмѣстѣ с отрывками своихъ и чужихъ воспоминаній
въ царство тѣней—или альтернативную реальность
гдѣ я
въ своемъ государствѣ читать стихи Блока и Ходасевича
вмѣстѣ съ отцомъ и слушать его разсказъ о томъ какъ однажды
у нихъ былъ въ гостяхъ Владиміръ Ульяновъ
господинъ съ хорошими манерами и фунтикомъ конфетъ
для мальчика который черезъ тридцать лѣтъ умретъ въ лагерѣ
какъ большинство друзей-знакомыхъ господина Ульянова

В книге «Децентрализованное наблюдение» Андрей Черкасов продолжает работу по исследованию границы между поэтической речью и поэтическим молчанием (начатую конкретистами и поэтами круга «Black Mountain School»).
В своих стихах Черкасов работает со своего рода «редимейдами», пойманными на поэзии осколками устной и письменной речи, которые он комбинирует друг с другом. Как правило, о действительном источнике возникновения тех или иных словесных конструкций мы не можем судить наверняка: это может быть, условно говоря, и очитка при беглом просмотре новостной ленты, и забавная фраза, вычитанная на рекламном щите, и парадоксальное сочетание слов, рождённое во внутреннем бормотании. Со стороны такой комбинаторный метод кажется привлекательным и доступным, однако эта доступность мнимая. Действительно, любое сближение отдалённых (или далековатых) друг от друга слов или словосочетаний, которое не может быть встречено в обыденной речи, всегда автоматически порождает новые значения и «приращение смысла». Это даёт известную свободу тем молодым поэтам, которые так или иначе прибегают к практике широко понятой комбинаторной литературы, однако часто такая работа выглядит избыточной и необязательной: работая на этом поле, очень легко поскользнуться и впасть в безответственное «сближение всего со всем». Это, конечно, не случай Черкасова: он обладает редким, кристальным чувством языка. Найденные им сочетания слов всегда выглядят и звучат совершенно естественно и органично при всей своей невозможности и коммуникативной бесполезности. Он не ведёт борьбу с языком, но и не отождествляет себя с его орудием; скорее, бесстрастно фиксирует скрытые в нём изъяны, превращая их в точки роста поэтического языка.
Кажется странным, что некоторые критики, писавшие о стихах Черкасова, говорили об их «лёгкости». Лёгкость этих стихов столь же мнима, как и их доступность — при погружении в них, невозможно избавиться от маячащего чувства тревоги. Откуда оно возникает? Во многом эта тревога связана с неизбывным ощущением пустоты (о пустоте как онтологическом основании поэзии Черкасова писал в своей давней заметке Кирилл Корчагин). Те, кто слышал стихи Черкасова в авторском исполнении, знают, какую роль в его чтении играют паузы: тишина в этих стихах существует на равных правах с речью (если не играет ведущую роль). Слова и вещи этого мира складываются в порядок только когда пространство вокруг них ничем не заполнено (ведь иначе всё спутается друг с другом). Однако, дело не только в этом: тревогой пропитан и сам языковой материал, с которым работает Черкасов — и эта тревога свидетельствует о том, что в этих стихах мы приближаемся к самому краю границы между бытием и
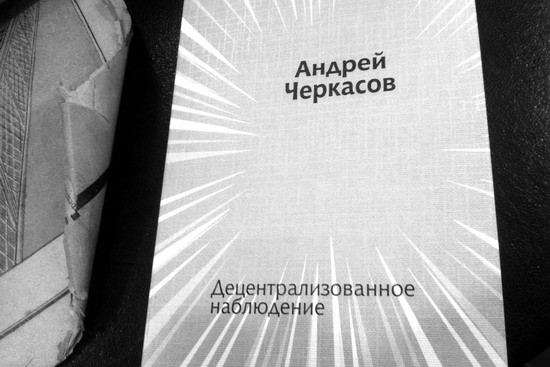
или эхо
ракет
или картонного дома
недолгий костер
нет
не тень
дерева
на стене
за спиной
да
поиск зеркал
корабль над городом
выставка из песка
и «обнаружил, что»
да
открывается свет
нет
* * *
Отдельно нужно сказать несколько слов о Станиславе Снытко, который не вошёл в поэтический шорт-лист, но вошёл в соседний, прозаический. За несколько дней до объявления «короткого списка» Премии Андрея Белого, он вошёл в
Большинство современных литературных институций до сих пор выполняют разделительную функцию между «поэзией» и «прозой», а само письмо отделяется от общего контекста искусства, в то время как многие важные процессы в нём сегодня пролегают вне всех этих границ. Этот разрыв аксиоматичен: практика искусства всегда опережает его теорию, которая, в свою очередь, подготавливает рамки для институциональной среды. Однако, как известно, система работает до первого сбоя — и необязательно дожидаться последующих, чтобы понять, что её основания нужно переосмыслить.
