По поводу "Красоты" Скрутона: размышление от Достоевского

Скрутон начинает с отрицания единства трансценденталий истины, красоты и добра. Если истина еще может соответствовать добру — ибо трудно представить себе человека, который, совершая добрый поступок, в то же время не определяет его как «истинный» — то красота существуют помимо и истины, и добра. Известен феномен порочной красоты: он изображен в «Цветах зла» Бодлера, «Пире во время чумы» Пушкина, прозе Флобера, Уайлда, живописи Гойи, Караваджо. Иными словами, красота не обязана проходить верификацию у истины или добра — она сама по себе.
Аналогичное рассуждение находим и у Достоевского в известной речи Мити Карамазова: «Красота! Перенести я при том не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой».
Но Достоевский проблематизирует и истину: «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной», и добро: «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного». На одном из уровней своего расшатанного сознания Раскольников считал себя творящим добро — пускай и по своей, наполеоновской мерке. Более того, этому «добру» он искал рациональное обоснование, т.е. старался указать на его «истинность».
Однако красоту все никак не удается увязать с добром и истиной. Ставрогина от подвига раскаяния отвратила чрезмерная некрасивость, «неизящность» этого поступка — засмеют еще, что барин вдруг удумал каяться над столь «неловким» грехом. В главе «У Тихона» Ставрогин не исповедуется старцу, а оголяется перед ним — это исповедь без покаяния. А в «Дневнике писателя» Достоевский вспоминает предсмертную записку одной самоубийцы (кстати сказать, дочери Герцена), в которой она просит, чтобы перед похоронами гости «вполне убедились, что она мертвая». Иначе — «очень даже не шикарно выйдет!»
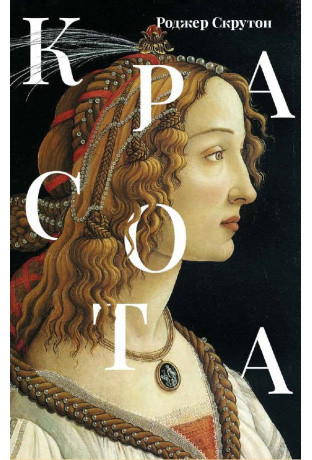
Но вернемся к Скрутону. В своем определении красоты он отталкивается от эстетики Канта: красота есть нечто, что интересно само по себе, т.е. самоцель. Красота не требует никаких внешних обоснований, она совершенно автономна. Тем не менее, продолжает Скрутон, мы получаем наслаждение от созерцания красоты — может ли статься, что красота нас интересует только как средство к получению удовольствия? В таком случае красота будет лишь сублимацией желания или инстинкта. Но нет, говорит Скрутон, ибо желание корыстно, оно фундировано в субъекте. Наслаждению же красотой свойственна бескорыстность.
Но как, вообще говоря, возможно бескорыстное наслаждение или желание? Желание, сориентированное на Другого? Здесь Скрутон, вроде бы отмежевавшись от связи этики с эстетикой, вновь возвращается к ней. Схожее затруднение вызывает и возможность бескорыстного поступка. Обратившись к Канту, мы вспомним, что нравственность у него действительна только тогда, когда она обусловлена свободой; в свою очередь свобода реальна только в случае причастности человека к ноуменальной сфере бытия, т.е. к вечности, бессмертию и Богу. Иначе деятельность человека редуцируется до чувственных склонностей и иных «естественных причин», и тогда его добрый поступок обусловлен не вечным нравственным долгом, но естественным интересом: выживания, инстинкта, социализации и т.п. «Если Кант прав, — пишет историк философии Вадим Волков, — то само существование людей приравнивается к чуду».
Но ведь это же тема Достоевского! Человек морален только в случае веры в свое бессмертие. Иначе разрывается связь с «иными мирами», личность вынужденно становится рефлексом своей среды; смерть, инстинкт, социальные «условности» оказываются единственными детерминантами человеческого поведения, перемещаясь от следствия нашей активности — к ее причинам. «По рассуждению человеческому, — говорит ап. Павел, — когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем! Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:32-33).
Обобщая Канта и Достоевского: красота и этика объективны только тогда, когда они фундированы идеей ноуменальной свободы и бессмертия. Иначе человек не может быть понят как существо самоопределяющееся, — и тогда он сводится к насущной необходимости, к рефлекторному желанию, к инстинкту. И красота его будет интересовать не ради самой себя, но как инструмент извлечения удовольствия — и в этом смысле порнографию следует понимать как высшую точку красоты.
Здесь парадокс: только признавая над собой высшую причину — обозначим ее как единство трансценденталий истины, красоты и добра — хотя у Достоевского это, безусловно, Христос — человек может быть понят как существо свободное. И хотя эта высшая причина и не обязывает, как обязывают законы природы, она безусловно объективна и необходима.
Это то, что теоэстетика называет скандалом. Оказывается, красота и добро все еще могут трактоваться как объективные понятия. Объективные — значит требующие, даже насилующие. Их не получится списать на «глаза смотрящего» или «кто как хочет…» Скрутон решает эту проблему «обязаловки» по кантиански: обращением к условиям восприятия, тем самым несколько приглушая «метафизический» скандал. Поэтому Сркутон скорее выступает апологетом искусствоведения, то есть способности выносить адекватные суждения о красоте, нежели метафизического понимания оной.
Иначе у Достоевского. Для его творчества тоже характерна «скандальность»: герои постоянно чинят всякие безрассудства. То Настасья Филипповна сожжет в камине мильоны денег, то Ставрогин дернет генерала за нос, то Фёдор Карамазов начнёт скабрезничать в старческой келье. Такую форму поведения Е.А. Ляпушкина называет «бескорыстным эпатажем», то есть таким эпатажем, который не направлен на возвеличивание скандалящей личности. Зачем же тогда творится скандал? Достоевский скандал — глас вопиющего в пустыне. Это зов к пониманию. Мы привыкли редуцировать человека до его среды: «с кем поведёшься, от того и наберешься». Но человек, оказывается, всегда больше этого — и к пониманию этого «больше» и направлен скандал у Достоевского.
Полагаю, что и объективность красоты можно понимать как зов или приглашение к
Скрутон начинает с отрицания единства трансценденталий истины, красоты и добра. Если истина еще может соответствовать добру — ибо трудно представить себе человека, который, совершая добрый поступок, в то же время не определяет его как «истинный» — то красота существуют помимо и истины, и добра. Известен феномен порочной красоты: он изображен в «Цветах зла» Бодлера, «Пире во время чумы» Пушкина, прозе Флобера, Уайлда, живописи Гойи, Караваджо. Иными словами, красота не обязана проходить верификацию у истины или добра — она сама по себе.
Аналогичное рассуждение находим и у Достоевского в известной речи Мити Карамазова: «Красота! Перенести я при том не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой».
Но Достоевский проблематизирует и истину: «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной», и добро: «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного». На одном из уровней своего расшатанного сознания Раскольников считал себя творящим добро — пускай и по своей, наполеоновской мерке. Более того, этому «добру» он искал рациональное обоснование, т.е. старался указать на его «истинность».
Однако красоту все никак не удается увязать с добром и истиной. Ставрогина от подвига раскаяния отвратила чрезмерная некрасивость, «неизящность» этого поступка — засмеют еще, что барин вдруг удумал каяться над столь «неловким» грехом. В главе «У Тихона» Ставрогин не исповедуется старцу, а оголяется перед ним — это исповедь без покаяния. А в «Дневнике писателя» Достоевский вспоминает предсмертную записку одной самоубийцы (кстати сказать, дочери Герцена), в которой она просит, чтобы перед похоронами гости «вполне убедились, что она мертвая». Иначе — «очень даже не шикарно выйдет!»
Но вернемся к Скрутону. В своем определении красоты он отталкивается от эстетики Канта: красота есть нечто, что интересно само по себе, т.е. самоцель. Красота не требует никаких внешних обоснований, она совершенно автономна. Тем не менее, продолжает Скрутон, мы получаем наслаждение от созерцания красоты — может ли статься, что красота нас интересует только как средство к получению удовольствия? В таком случае красота будет лишь сублимацией желания или инстинкта. Но нет, говорит Скрутон, ибо желание корыстно, оно фундировано в субъекте. Наслаждению же красотой свойственна бескорыстность.
Но как, вообще говоря, возможно бескорыстное наслаждение или желание? Желание, сориентированное на Другого? Здесь Скрутон, вроде бы отмежевавшись от связи этики с эстетикой, вновь возвращается к ней. Схожее затруднение вызывает и возможность бескорыстного поступка. Обратившись к Канту, мы вспомним, что нравственность у него действительна только тогда, когда она обусловлена свободой; в свою очередь свобода реальна только в случае причастности человека к ноуменальной сфере бытия, т.е. к вечности, бессмертию и Богу. Иначе деятельность человека редуцируется до чувственных склонностей и иных «естественных причин», и тогда его добрый поступок обусловлен не вечным нравственным долгом, но естественным интересом: выживания, инстинкта, социализации и т.п. «Если Кант прав, — пишет историк философии Вадим Волков, — то само существование людей приравнивается к чуду».
Но ведь это же тема Достоевского! Человек морален только в случае веры в свое бессмертие. Иначе разрывается связь с «иными мирами», личность вынужденно становится рефлексом своей среды; смерть, инстинкт, социальные «условности» оказываются единственными детерминантами человеческого поведения, перемещаясь от следствия нашей активности — к ее причинам. «По рассуждению человеческому, — говорит ап. Павел, — когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем! Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:32-33).
Обобщая Канта и Достоевского: красота и этика объективны только тогда, когда они фундированы идеей ноуменальной свободы и бессмертия. Иначе человек не может быть понят как существо самоопределяющееся, — и тогда он сводится к насущной необходимости, к рефлекторному желанию, к инстинкту. И красота его будет интересовать не ради самой себя, но как инструмент извлечения удовольствия — и в этом смысле порнографию следует понимать как высшую точку красоты.
Здесь парадокс: только признавая над собой высшую причину — обозначим ее как единство трансценденталий истины, красоты и добра — хотя у Достоевского это, безусловно, Христос — человек может быть понят как существо свободное. И хотя эта высшая причина и не обязывает, как обязывают законы природы, она безусловно объективна и необходима.
Это то, что теоэстетика называет скандалом. Оказывается, красота и добро все еще могут трактоваться как объективные понятия. Объективные — значит требующие, даже насилующие. Их не получится списать на «глаза смотрящего» или «кто как хочет…» Скрутон решает эту проблему «обязаловки» по кантиански: обращением к условиям восприятия, тем самым несколько приглушая «метафизический» скандал. Поэтому Сркутон скорее выступает апологетом искусствоведения, то есть способности выносить адекватные суждения о красоте, нежели метафизического понимания оной.
Иначе у Достоевского. Для его творчества тоже характерна «скандальность»: герои постоянно чинят всякие безрассудства. То Настасья Филипповна сожжет в камине мильоны денег, то Ставрогин дернет генерала за нос, то Фёдор Карамазов начнёт скабрезничать в старческой келье. Такую форму поведения Е.А. Ляпушкина называет «бескорыстным эпатажем», то есть таким эпатажем, который не направлен на возвеличивание скандалящей личности. Зачем же тогда творится скандал? Достоевский скандал — глас вопиющего в пустыне. Это зов к пониманию. Мы привыкли редуцировать человека до его среды: «с кем поведёшься, от того и наберешься». Но человек, оказывается, всегда больше этого — и к пониманию этого «больше» и направлен скандал у Достоевского.
Полагаю, что и объективность красоты можно понимать как зов или приглашение к
