Поэзия как производство легкости в эпоху тяжести

Сергей Финогин
Есть вызывающая вопросы особенность в стремящейся иметь политическое измерение поэзии. В ней происходит объединение двух областей существования так, будто они связаны друг с другом органически и имеют равные изначальные условия, эти области; этика и индивидуальное социальное положение и собственно поэзия. Дело обстоит так, будто эта первая область симметричным образом стремится совпасть со второй, будто в поэзии действуют те же причины и правила, что и в социальной реальности.
Если поэзия и эта реальность объединены, то справедливо задать вопросы: можно ли в стихах совершить плохой поступок? Сделать неверный политический выбор? Страдать и испытывать лишенность так же, как в жизни? И в главным образом может ли поэзия изменить общество? Идеалом некоторых форм политической поэзии будто бы является вера в то, что можно ответить '«да»' на все эти вопросы, в реальности же оказывается необходимо писать с внутренним знанием, что все это невозможно, но мы будем делать вид, будто это не так.
Есть аргумент, что стихи репрезентируют для читателя Другого, он этический вызов, Другой требует признания, понимания и учета его голоса и его страдания. В поэзии Другой, это часто еще тот, кто обладает аурой принадлежности к
Таким образом стихотворение, это всегда метауровень по отношению ко всякому индивидуальному бытию. Стихи же, в которых репрезентируется тело, фактичность присутствия, все то, что составляет собой Другого стремятся показать, будто это та же инстанция Другого, что и в жизни. Но этот Другой — художественный эффект, этической задачей читателя в этом случае будет будет сочувствие автору в том, что он написал текст, которым он сам от себя заразился и возможно находится от него в зависимости и в ощущении придавленности.
Итак, Другой в стихах разорван с Другим в жизни, политизация же стремится заземлить его в фактичность и социальность, в то время как само устройство поэзии этому противоречит. Потому и '«я знаю, что поэзия не может изменить общество, но я буду делать вид, что это не так»'.
Вероятно, политическое в поэзии в том, что она сгущает или наоборот рассеивает, обнажает коллективные интуиции, доводит их до пределов, играет на обмане ожиданий, подвешивает этический уровень. Там, где поэзия отказывается от своей симметрией с жизнью, где она не отождествляет себя с милитантными проектами она оказывается политической по собственной истине. То есть говорит значимое слово, которое должно нести в себе обобщение в области изначально смутного. Возможно не покидая это смутное, но создавая в нем значимое понимание вне логики. Политика здесь в том, что такие стихи заражают тем, что они не заземлены, что они из какого то другого места, из места идеальной игры. Это место свободно и не стеснено всей неадекватностью и тяжестью социальной реальности.
Стихи часто читаются от почти что Ничто, от легкости, безразличия к времени которое на них выделяется, эта область разреженного социального при совпадении со свободной областью идеальной игры и есть арена политического, в ней все и происходит. А все остальное политическое происходит на площадях, избирательных участках и в политическом активизме.
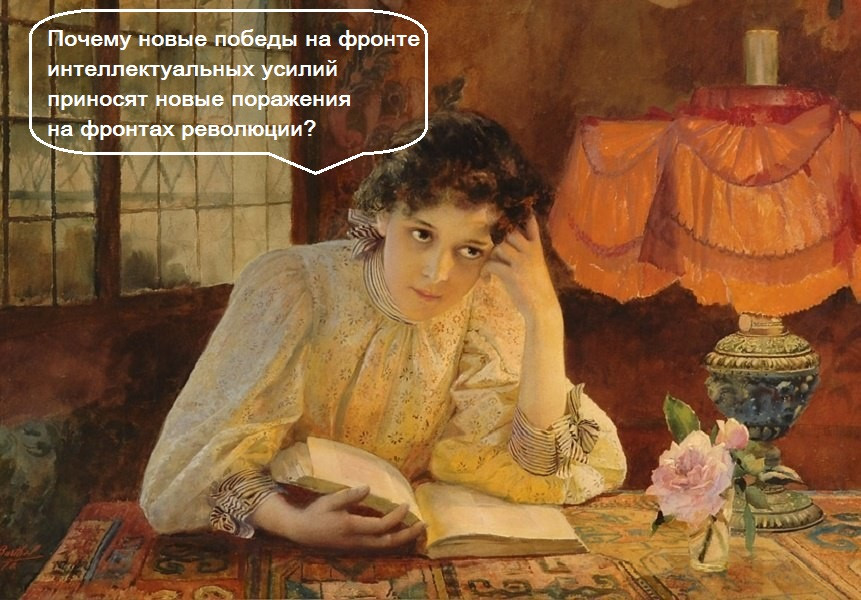
Роман Сергеевич Осминкин:
Сережа, ты исходишь из какого то архаичного понимания политики и романтического понимания поэзии, Романтики хоть и противопоставлявшие Я и Мир, но считавшие поэзию способом познания мира, например поэзию как пример свободной речи свободных граждан перевели поэзию в измерение языка и воображения. Ты предлагаешь вернуться на позиции субъективного идеализма, романтического поэта творящего мир экс нихило из ничего и постигающего имманентную художественную истину, оставив философам и политикам повседневный язык и профанный материальный мир. Но уже с модернизма поэзия преодолела это разграничение и осознала что ее медиум те же слова что и у политики и идеологии в общем и производятся они особенно сегодня в общем для всех знаковом 24/7 коммуникативном пространстве. То есть как хорошо показал тот же Рансьер никакого одиночества языка не бывает и язык уже вписан в социальное на уровне каждого использованного слова и грамматики, на молекулярном уровне, хотя Рансьеру это дало повод наделить поэзию силой собственной метаполитики. Уже авангард опрокинул поэзию в жизнь и требовал не писать о политике, а писать политически, что в позднем модернизме обрело наверное ту самую затрудненную форму и наделило поэзию функцией сопротивления идеологии и коммодификации знаков. Может быть сегодня стоит говорить о диалектике этого различия — обладает ли поэзия и язык своей собственной политикой и можно ли, революционизируя язык освобождать и самого субъекта, Или поэты как такие же вписанные в дискурс говорящие субъекты должны сопротивляться не только семиотически, не только затрудненной имманентной формой и художественной истиной, но и сопрягая ее с конкретным материально-техническим окружением и инструментарием, заземляя на в том числе политическую борьбу понимаемую сегодня предельно расширенно как контрпубличную и культурную политику.
Сергей Финогин
Позволю себе указать на то, что ты банализируешь оппонента, как ты это делал уже кстати после моего доклада, (будто бы я имею ввиду, что надо куда то вернуться.) А тут ты пишешь, что я хочу вернуться к романтическому поэту, который подобно демиургу творит мир из ничто, я не могу понять откуда можно извлечь такое, честно сказать. Откуда ты это вывел? То, что медиум поэзии те же слова, что у политики и идеологии это несомненно, вопрос в какой области, в какой языковой игре эти слова применяются.(я разграничил эти области, которые существуют эмпирически — поэзии и жизни) В этих областях одни и те же слова находятся в разных условиях существования, и эти условия задают несводимую друг к другу логику их применения. Вот на это различие я указал, как на то, которое проскакивается, что создает некоторые проблемы. Далее по поводу Рансьера: я не читал его работ о поэзии, что такое собственная метаполитики поэзии я не знаю, это видимо некая изысканная система, свойственная этому автору, с ней стоит разобраться вероятно, но в проброс едва ли получиться. Зато например Ален Бадью понимает поэзию и вообще искусство как автономную машину, производящей дизъюнктивные синтезы, которая , цитирую '«в пролетарском аристократизме конституирует разрыв с понятливостью Империи»' (под Империей он понимает глобалистское общество в котором мы все живем) В позднем модернизме поэзия безусловно политизирована и я целиком за такую политизацию. Она как раз используя агрегаты эстетического (а не слов из политики и идеологии, поставленных в их же логике) остраняет смысл, обрывает его в тезуре, изобретает чисто формальные приемы, в общем занимается тем, что не сводимо к языку обыденности.
Вообще вероятно этот вопрос можно упереть в вопрос об автономии искусства, который имеет ничью по очкам, но я как раз пишу соглашаясь с автономией, и вопрос как эту автономию использовать для существования. И пока то, что я нащупал, это стихи как агрегаты производства лёгкости, быть может увеличения способности действовать по спинозе (что является этикой) и лёгкости в смысле ницше, как противоположности духу тяжести. Об этом еще стоит подумать почитать
Р.С. Осминкин:
Ну что ты, дорогой Сережа, я наоборот весьма комплементарен твоему ходу мысли). На наших чтениях я говорил про теургический подход к роли поэзии, которому стремились символисты и который авангард радикализовал в пролетарском мессианизме). А сейчас я пишу скорее про то, что мы до сих пор не преодолели эти противоречия, заложенные в романтическом субъекте поэзии и романтическом понимании произведения искусства. Рансьер тут нам не очень нужен, но я привел его скорее для экзмемплификации твоего противопоставления поэзии как имманентного сопротивления языка — поэзии как политически ангажированному средству: вот эта цитата из Р. тебе понравится: «поэтическая коммуникация» <…> противопоставляет «языку-орудию демонстрации и экземплификации, адресованному подготовленному слушателю, <…> язык как живое тело символов, то есть выражений, которые единомоментно показывают и прячут в своем теле то, что они говорят, выражений, которые таким способом манифестируют не определенную вещь, но, скорее, саму природу и историю языка как силы мира или сообщества».
Я знаю как ты любишь Бадью. А Бадью ведь пишет про поэзию модернизма, и его “Век поэтов”, где философия подшивается к поэзии таких модернистских столпов как Мандельштам, Пессоа, Целан, но этот век поэтов закончился, что признает и сам Бадью. Я конечно не призываю растворить поэзию в политике, более того — это попросту невозможно, т.к. для современной постидеологической циничной политики поэзия слишком избыточное ненадежное и малоэффективное средство. Растворить поэзию в политике можно разве что на уровне метода, как например делает Кирилл Медведев (см. его курс под названием, придуманным Пашей Арсеньевым — “Как убить поэзию политикой”).
Я скорее хочу сказать, что того разграничения между поэтическим и повседневным языком, которое было акцентировано еще ранними формалистами и Шкловским (кстати, потом оно во многом было проблематизировано) сегодня невозможно на морфологическом, формальном уровне. Если еще в
Но твое последнее предложение использовать сегодняшнюю свалившуюся на поэзию условную автономию для выстраивания этического проекта по созданию легкости — мне кажется интересным в другом смысле. По сути ты предлагаешь альтернативный социальной вовлеченности и подключению поэзии к прогрессивной эмансипаторной политике участия, активизма, заботы и инклюзии проект. Хотя я бы думал скорее про их взаимообусловленность. Твоя этика похожа на этику поздних ленинградских неомодернистов Кривулина и Шварц, этику преображенного языка, этику катарсического очищения, но тут надо думать как сегодня такой метафизический по сути проект может быть пересобран, например через форму материалистической исповеди, сектантской мессы, через взаимное преодоление чувства вины и долга, преодоление разрыва между сущим и должным во всеобщем воскрешении, равенстве и справедливости для всех живых и мертвых.
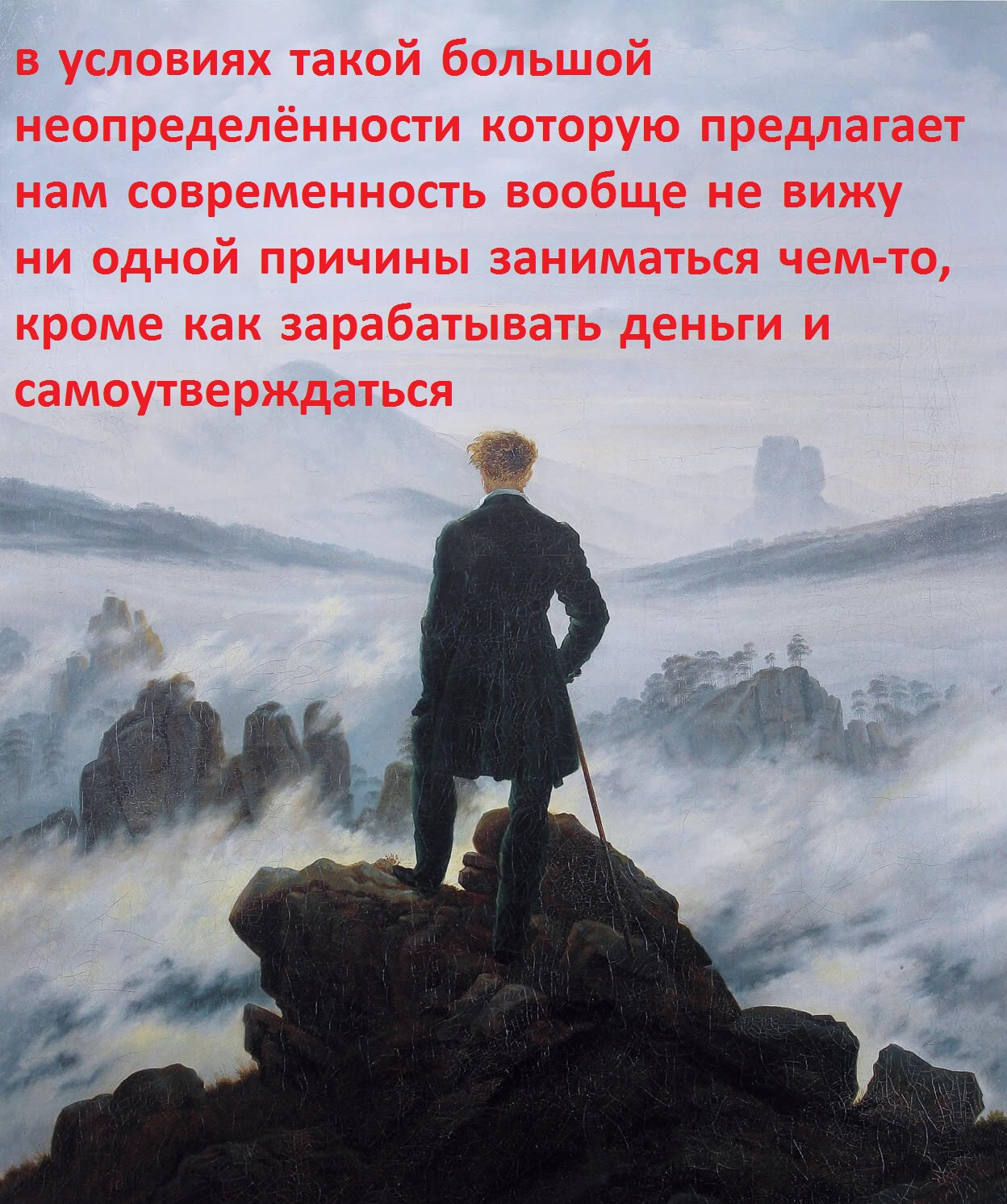
Сергей Финогин:
Да, теургия, только вместо практического воздействия на богов, воздействие на людей, пролетарский мессианизм был обеспечен социальным движением, которое раздувало его паруса, насколько это релевантно для нашей ситуации большой вопрос. Преодоление романтического субъекта, это очень интересный вопрос, с одной стороны есть образ поэта, который скачет приложив запястье ко лбу в росистом парке, и все, кто ставит под вопрос успешность эффекта социального присутствия социального тела в поэтическом тексте могут быть объявлены на него похожими. С другой стороны в более рефлексивном смысле романтический поэт это фигура, которую современная философия дает нам возможность обобщить в качестве корреляциониста. То есть он находится в экстатическом рассинхроне с реальностью, предполагая, что идеал к которому он стремится невозможно воплотить в этой реальности, он метафизический догматик, исходящий из двусмысленности мира и несводимости их друг к другу. Это образ, который стоит преодолеть, но едва ли он так уж нам мешает. Или ты о чем то другом говоришь?
Твой аргумент, что сегодня нету формального различия между поэтическим и прозаическим языком, а техника пронизывает наше письмо и чтение, очень сильный аргумент на самом деле, возможно главный. Я думаю тут дело обстоит так: действительно техника пронизывает нас, но можно вспомнить разные идеи о том что вообще такое человек. У Бахтина например есть хорошее слово незавершенность, человек это всегда незавершенность, а также несводимость ни к одной идентичности и не сводимость к своей фактичности. Жижек пишет, что субъект, это зазор или провал, ошибка по отношению к системе, апостол Павел пишет и '«работающие как не работающие»'. В
Да. ты это понимаешь как метафизический проект, вполне возможно это так, мне не неудобно с этим согласиться. но можно помыслить что это с точки зрения читателя. Стихи часто цепляют людей, потому что они испытывают от них радость узнавания. что-то смутное, что в них и так есть, поэт выразил в точности. В политическом разрезе это смутное — это всегда что-то довольно скорбное (в 85% примерно) и таким образом это, какие бы ни были это талантливые стихи, усиление Духа тяжести и его затвердение. Другое дело — стихи, вызывающие легкую оторопь или смех или сексуальное возбуждение или фетишистское наслаждение маленькими формальными смещениями.
И кстати, бОльшая часть твоих стихов вызывала у меня какое то из этих чувств или несколько, так что я думаю Роман Сергеевич поэт легкости в большой степени.
Р.С. Осминкин:
Сережа, мне нравится что ты тут как философ рассуждаешь, а не как поэт, философ в делезианском смысле как производящий концепты. Интересно, что приводимые тобой ссылки на Бадью и Жижека как раз скорее противоречат этому концепту легкости. Для Жижека (кстати опрокидывающего психоанализ в политику) поэзия — это вслед за Лаканом — пыточная языка, у Бадью — процедура производства истины, наделенная всей присущей этой процедуре серьезностью и требованием верности. Можно мыслить эту легкость и без метафизических костылей наверное как возможность поэзии создавать сообщества, не существующие в данном политическом режиме, с одной стороны воображаемые, неотмирные, с другой практикуемые через эту легкость — легкость как аффективную и когнитивную компоненту языка. Удерживать эту неотмирность от отрыва в трансцендентное пространство, заземлять скорее в неоязыческую секту, коммунистическую ячейку, где поэзия будет неразрывно связана с этосом. Конечно наш кружок прекарных поэтов и поэток сразу уперся в пределы политики идентичности и ограничения письма рефлексирующего свои производственные условия, мы расширяли прекарность через Дж. Батлер как всеобщую уязвимость наших тел, неравномерно распределенную в мире, через бредовую работу Дэвида Гребера, работу, на которой почти каждый и каждая из нас когда-нибудь работали или продолжают работать, или через всеобщую хрупкость как у Анны Цзин, присущую не только человеческому, но и планетарному и экологическому. Мыслить поэзию как легкость интересно может быть даже в постутопической перспективе как убежище для всей живой материи от энтропии или терапевтическую интервенцию в несчастье.
Сергей Финогин:
Возможно противоречат, Жижек о пыточной дыбе говорит в книге “О насилии”, он вспоминает стихи Радована Караджича и показывает, что поэзия помогает в создании национализма и участвует в создании легитимации геноцида. Мысль Жижека тут синонимична знаменитым пассажам против поэзии и поэтов у Платона; эстетический эффект уводит в сторону от добродетели. Где еще он говорит я поэзии я не помню, но наверняка где то есть. Бадью вместе с тем что ты говоришь сторонник абсолютной автономии искусства, потому-что каждая процедура истины, это как и платоновская идея самотождественный процесс. Да, легкость, которая создает сообщества, это прекрасная мысль, тут автоматически возникнут подозрения: не эскапизм ли это? не практики ли позитивного отношения к жизни? не ироническое ли постмодернистское воспроизводство религиозной группы? Если пытаться апофатически нащупать эту легкость, то ответы на все эти вопросы должны быть '«нет»'. А отталкиваться я думаю надо от Ницше и от книги про Заратустру, мне кажется это невероятно душеполезное чтение сегодня. Главное не ваше тело, не ваша жизнь и здоровье, (хотя это тоже вероятно важно) а то, каким силам и эффектам вы способны позволить пройти через ваше тело и какие препоны тяжести (страха, усталости, моральных догм) в вас существуют и как с ними справляться и как их описывать.
Р.С. Осминкин:
А ты знаешь что у Хлебникова есть взятый из Заратустры Ницше герой Зороастр? в сверхповести “Зангези” и других тоже по-моему? И Хлебников тоже был неотмирным в твоем понимании и хотел синтезировать понимание жизни как рацио, тела и здоровья с восточным чистым переживанием времени и его интенсивности. И да, я имею в виду то место, где Жижек пишет про поэзию как пыточную языка, перефразируя лакановское “человек — это субъект, которого схватили и пытают с помощью языка”: «Самая элементарная форма пытки языка называется поэзией.»http://gefter.ru/archive/12121
Сергей Финогин:
Не знаю у Ницше ли он его взял, может у него речь шла о воскрешении советами аутентичного зороастризма. У Жижека получается так, что в поэзии человек пытает язык, чтобы он не пытал его, садитическое отношение к телесному присутствия в тексте может быть примером такой пытки. Потому что язык навязывает человеку его образ и этот образ может быть крайне проблемным и значит его надо распотрошить, рассечь свое тело в тексте. Мне только не хочется соглашаться с идеей, что язык должен говорить правду, в конечном итоге это может привести к знанию, опять же к основанию и тяжести.
Р.С. Осминкин:
Да мне вообще идея расщепленного субъекта — через которого говорит бессознательное сегодня не кажется для поэзии чем-то имеющим смысл. Может говорить о постлингвистическом субъекте — сгустке аффектов или отказаться от субъекта вовсе как ООО. Но Сережа, скажи честно, неужели ты думаешь, что на автономию поэзии кто-то или что-то сегодня покушается? Скорее поэзия сама ищет к чему пришиться — политике, науке, философии, технике и т.д., так как лингвистическая автономия ее девальвирована и семиотическая обособленность — эстетическая рамка снята, теперь можно говорить только о переключении прагматических регистров и даже процесс восприятия сжался до автоматизированных интервалов, схлопнув перцептивный опыт до клика мышкой. Я думаю тут никто из нас не думает (думаю не думает, ха-ха), что поэзию нужно интрументализировать политикой и прежде всего потому, что самой политике это не нужно, мы существуем во враждебном идеологическом окружении тотальной коммуникации и постидеологического внешнего цинизма, где поэт уже даже не партизан языка который мог что-то там подрывать на пути следования коммуникативных эшелонов, а погруженный в поток агент, чья самость зависит от других агентов. Дело не в том, чтобы вынырнуть из потока, поэзия — это определенный процесс саморазличения материи, где каждое стихотворение — определенный срез, ситуативная приостановка саморазличения.
Короче наметились две позиции: условно, когда человек садистически пытает языком себя и других, говоря за Другого и приписывая подчас против его желания другому предзаданные идентичности и травмы; и позиция поэзии как процедуры по производству легкости — самотерапии, создания в языке мест убежищ (про это писала Галя Рымбу, по-моему). Я сейчас практикую самообъективацию в языке, так как полностью субъект не устраним, я стараюсь себя сравнять с объектами — снять привилегию трансцендентального эго. Но это трудно, конечно).
Сергей Финогин.
Политика не покушается, но существует же этический поворот, снежинки, поворот к уязвимости как к способу быть видимым и существовать. Ппоэзия, конечно, воспринимает и имплантирует в себя все эти вещи, мне кажется появился бессознательный идеал, который заключается в том, чтобы боль и лишенность субъекта, появившегося вследствие этического поворота бесшовно имплантировать в поэзию. но поэзия, это же в некотором роде социально одобряемая шизо-практика, речь от первого лица, апелляции к телу и страданиям сама поэзия ставит в кавычки. Пафос проломления эстетического при помощи тела или разговорной неказистости выражения или аппеляциям к повседневности само это содержание делает типом игры, еще одним сырьем для смещения, тогда как автор хочет докричаться до мира или прошептать о своей подавленности им и чтоб это имело этический политический эффект.
Да, первая позиция не очень, вторая про самотерапию бесспорно, но и терапию других тоже. То , что ты практикуешь самообъективацию при понимании неустранимости субъекта, в этом есть святое безумие, мне кажется Введенский реализовал это в некоторой степени.

Никита Сунгатов:
Перечитал дискуссию; запинаюсь сразу о то, что, когда Сергей говорит о «стремящейся иметь политическое измерение поэзии», все как будто сразу понимают, о чём идёт речь, при этом по
Сергей Финогин:
Никита, текст я написал из позиции, что всем это примерно понятно, которая безусловно предполагает спекулятивность, широкий зум имеет свои преимущества и вместе с тем объективно уязвим со стороны конкретности. Но это "всем это примерно понятно " тоже чего-то стоит, это тоже какая-то реальность, то есть какая то эмпирика, и тут вопрос исходит ли она из предрассудка или имеет за собой знание, получившееся из хаоса разрозненного опыта и основанное скорей на интуиции. Конкретные стихи приводить, это за одним потянется второй, а там неоглядное поле. Ну и этические причины тоже придётся кого-то критиковать за глаза, причем вероятно даже хорошие тексты. Но да, надо отбросить эту деликатность и рассмотреть на конкретном примере ибо ставки высоки.
Никита Сунгатов:
Да, мне понятна эта позиция, но согласись, что за любым идеологическим суждением или суждением «здравого смысла» тоже есть какая-то эмпирика и реальность некоторого чувственного опыта или опыта интуиции — что не делает их относящимися к знанию. то если даже самая спекулятивная мысль должна отрефлексировать и прояснить свои основания. что касается деликатности — да, думаю, стоит её отбросить; вообще, проблема, возможно, в том, что ты употребляешь слово «критиковать», когда речь же не о критике в вульгарном смысле, а, скорее, об анализе симптома той ситуации, которую ты стремишься описать.
Р.С. Осминкин
Отлично, Никита, а как ты думаешь — твой тезис о прототипическом тексте может быть противопоставлен Сережиному концепту по производству легкости, или он скорее касается в принципе критики быстрого/дальнего чтения?
Никита Сунгатов:
Скорее критики дальнего чтения, да.
Р.С. Осминкин:
По поводу отсутствия конкретных примеров текстов в Сережиной концепции, то я думаю это скорее обязательное условие самого подхода философской спекуляции. Сережа берет общее поле (и да, ты прав, оно прототипическое) политической поэзии, производящей по его мнению тяжесть и предлагает свою замешанную на позднем ницшеанстве программу легкости. Я в своих репликах, поэтому не стал производить переход на другой — критический уровень, и мы остались в спекулятивной подвешенности, я скорее попытался разрыхлить, снять (диалектически) Сережину дихотомию изнутри его же тяжести/легкости. Условно политически ангажированная/social applaid поэзия и т.н. имманентная поэтическая автономия, не противопоставлены друг другу, а работают в той же коммуникативно-материальной среде, где индивидуальные намерения автора уже включены во всю совокупность условий и техник письма и чтения, и все зависит от того как тот или иной поэтический субъект выстраивает (встраивает себя) свое высказывание в среду, как организует себя в ней.
Сергей Финогин:
Да, Никита, Рома это правильно заметил, что это вписывается в различие между лёгкостью и тяжестью, о которых я тоже собираюсь написать, но тема Другого в поэзии и этики увела меня от этого несколько, в результате получился дефицит, который вот ты предложил заполнить эмпирикой и это тоже правильно.
Никита Сунгатов:
Про легкость и тяжесть: я вижу эти позиции не связанными с политизацией/аполитичностью напрямую. моя гипотеза в том, что "тяжелыми" являются тексты, в которых "слишком много субъекта" и слишком серьёзное отношение к "себе" (условно линия классицизм → модернизм); лёгкими же — те, в которых удаётся от "себя" освободиться, отстраниться от эго, взглянуть на него как бы со стороны (условно линия романтизм → концептуализм). поэтому, например, (если не брать здесь присутствующих) политизированный Герчиков мне кажется «лёгким», а аполитичный Вася Бородин — «тяжёлым». это в качестве вброса, недооформленная мысль.

Влад Гагин:
Привет всем! Жалею, что поздно подключаюсь к дискуссии, поскольку так много сказано, каждое второе предложение хочется уточнить, дополнить, оспорить или наоборот. Словом, тону в контекстах, поэтому просто попробую подступиться к теме со своей колокольни.
Прежде всего, конечно, хочется отметить, что непонятно, откуда берется “внутреннее знание” о том, что изменить поэзией политическую реальность невозможно. В целом согласен с репликами Ромы на этот счет: конечно, речь не идет о том, чтобы с помощью поэзии свергнуть какой-нибудь парламент и буквально разбить окно, но поэзия меняет наши практики взаимодействия с социальным пространством, она может освобождать тела, пробивать идеологические паттерны, заставлять выходить на улицу. Однажды я, убегая от ментов на митинге, натурально прокручивал в голове строчки Целана (кто знает, что бы я делал, не будь у меня в голове этих строчек?). Кроме того, наверное, не стоит забывать, что политика уже давно не только real politic и не только события политического освобождения, но и культурная политика, связанная с воспроизводством тех или иных нарративов, форм чувственности, а также прерывание этой трансляции. Можно вообще ничего не говорить об актуальной повестке, но писать политически, и это совсем не означает нахождение только на площадке “идеальной игры”. Думаю, идеальная игра должна быть проницаемой.
Далее. Мне близка развилка легкости и тяжести, но я бы подошел к ней с другого ракурса. В последнее время много думаю о ресентименте, который в политической поэзии для меня выражается в некотором стандартном нарративе о безысходности, пресловутой невозможности помыслить конец капитализма, в финале таких текстов при этом мы зачастую видим снятие этой невозможности за счет, например, красивого призрачного эстетического финта ушами. Для меня это своего рода работа стандартизирующей машины, deus ex machina, только противоречия разрешаются не в сторону бога, а в сторону, может быть, большого другого левой теории. Честно говоря, сам таким грешил, а сейчас пытаюсь изобретать что-то альтернативное. Но можно писать и через абсолютную невозможность политического изменения, как это делает, например, хоть и в прозе, Антуан Володин, гипостазируя крах революционных проектов, но переводя тяжесть в легкость какими-то другими контрабандными путями (может быть, этот перевод осуществляется как раз в силу гипостазирования: когда ничего точно невозможно изменить, у нас остаются чистые существования претерпевающих тел в коллапсирующем постапокалиптическом ландшафте; это своего рода политизация голой жизни, указание на то, что политическое простирается чуть дальше привычных биологических заграждений: оно не только там, где субъект, но и
Однако даже обычное “тяжелое” политическое письмо не кажется мне бесполезным. Оно помогает нащупать тупики политической теории, те места, в которые теория часто не успела заглянуть. Когда мы пишем из места тяжести, мы изучаем противоречия. Радость в том, что поэзия, как мне кажется, позволяет делать это на уровне иного дискурсивного оперирования (можно думать об этом в метафорах скорости или каких-то других, это не так важно).
Хочу еще сказать, что мне близка идея поэзии как шизопрактики, но для меня шизопрактика потому и не только “шизо”, но еще и “практика”, что она не существует в безвоздушном пространстве: она может быть таковой, только отталкиваясь от тех мест, где мы были закреплены. Нельзя детерриторизироваться, не имея территории под ногами. Думаю, что нужно сначала ввести некоторый опыт, некоторую идентичность, некоторое вменяемое, чтобы потом отказаться от того, что вменяется, а может, и вообще забыть про это.
