Франц Кафка. Переписка Теодора Адорно и Вальтера Беньямина
Мы публикуем письма Теодора Адорно Вальтеру Беньямину относительно работы последнего «Франц Кафка», впервые выпущенной в России издательством Ad Marginem в 2000 году и переизданной в 2013 году.
Из переписки с Теодором В. Адорно

Адорно — Беньямину (Оксфорд, 05.12.1934)
С огромным, прямо-таки обжигающим интересом я бы прочел новые фрагменты «Берлинского детства и прежде всего «Кафку»: разве все мы не задолжали Кафке разгадывающего слова, а пуще всех Кракауэр, и ведь до чего актуальна задача — вызволить Кафку из тенет экзистенциалистской теологии и переориентировать на иную. Поскольку ближайшая наша личная встреча состоится в не слишком обозримом будущем, не могли бы Вы
Адорно — Беньямину (Берлин, 16.12.1934)
Благодаря Эгону Висингу я имел возможность прочесть Вашего «Кафку» и спешу Вам сказать, что мотивы этой работы произвели на меня невероятно сильное впечатление — самое сильное из всего, исходящего от Вас со времени завершения «Крауса». Надеюсь в ближайшие дни выгадать время для подробного изложения своих мыслей, а в качестве предвестия позвольте выделить уже сейчас грандиозное определение дара внимания как исторической фигуры молитвы в конце третьей главы. Кстати, нигде наше совпадение в философской сердцевине не было для меня столь же явно, как в этой работе!
Адорно — Беньямину (Берлин, 17.12.1934)
Позвольте мне в чрезвычайной спешке — ибо Фелицитас рвет у меня из рук экземпляр Вашего «Кафки», который я смог прочесть лишь дважды, — все же исполнить свое обещание и сказать Вам об этой работе несколько слов, прежде всего, чтобы дать выход чувству спонтанной и переполняющей меня благодарности, которая охватила меня, едва я возомнил, будто угадываю и даже могу «оценить» этот грандиозный монумент. Не сочтите за нескромность, если я начну с того, что нигде больше наше совпадение в философской сердцевине не осознавалось мною столь же полно, как здесь. Если я приведу Вам мою самую первую, девятилетней давности, попытку толкования Кафки — это фотография земной жизни, сделанная из перспективы жизни нездешней, жизни вызволенной, от которой в кадре ничего не видно, кроме кончика черного платка, в то время как жуткая, сдвинутая оптика кадра есть не что иное, как оптика самой криво установленной фотокамеры, — то не понадобится никаких других слов для доказательства нашего совпадения, сколь бы Ваша интерпретация, двигаясь в том же направлении, ни раздвигала границы этой концепции. Однако в то же время это касается также — и притом в очень принципиальном смысле — и отношения к «теологии». Поскольку я на таковой — еще до прочтения Ваших «Пассажей» — настаивал, мне представляется вдвойне важным, что образ теологии, к которому устремлены мои мысли, не намного отличается от того, которым здесь питаются мысли Ваши, — очевидно, ее позволительно назвать «обратной» теологией. Ваша позиция против как естественных, так и сверхъестественных интерпретаций столь мне близка, что представляется мне и моей тоже, — в моем «Кьеркегоре» меня волновало в точности то же самое, и раз уж Вы высмеиваете попытки связать Кафку с Паскалем и Кьеркегором, позвольте напомнить Вам, что с той же издевкой выведены и у меня попытки связать Кьеркегора с Паскалем и Августином. Если же я тем не менее признаю одну связь между Кьеркегором и Кафкой, то в последнюю очередь это будет связь диалектической теологии, адептом которой от лица Кафки выступает Шёпс. На мой взгляд, связь эта скорее всего обнаруживается как раз в том месте «писания», где Вы столь весомо утверждаете: то, что Кафка подразумевал под реликтом писания, можно куда сподручнее, а именно в общественном смысле, понять как его пролегомены. А это и вправду есть зашифрованная суть нашей теологии — не более, но и ни на йоту не менее. Но то, что она прорывается здесь с такой грандиозной силой, есть для меня самая прекрасная порука Вашей философской удачи со времен моего первого знакомства с Вашими «Пассажами». К совпадениям нашей мысли я бы в особенности хотел еще причислить Ваши суждения о музыке, а также о граммофоне и фотографии — моя работа примерно годичной давности о форме грампластинки, которая, исходя из одного конкретного места книжки о барокко, в то же время оперирует категориями вещного отчуждения и оборотной стороны почти в точно таком же смысле, в какой конструкции я нахожу их у Вас в «Кафке», — эта работа, как я надеюсь, в ближайшие недели будет Вам доставлена по почте; а прежде всего то, что сказано у Вас о красоте и безнадежности. Зато я почти сожалею о том, что все ничтожество официальных теологических интерпретаций Кафки в Вашей работе скорее названо, но не выведено с той же силой, с какой, допустим, вы это показали на примере толкования «Избирательного сродства» Гундольфом (кстати сказать, психоаналитические банальности Кайзера застят истину куда меньше, чем подобное бюргерское «глубокомыслие»). У Фрейда униформа неотделима от отцовского образа.
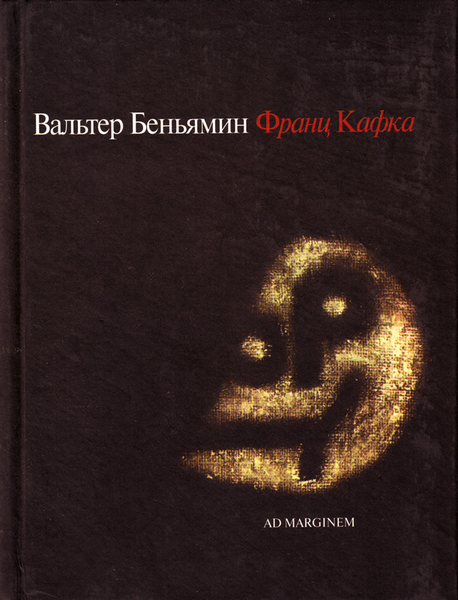
Раз уж Вы сами называете эту работу «неготовой», с моей стороны было бы пустой да и неразумной вежливостью Вам в этом противоречить. Вы слишком хорошо знаете, насколько в этом случае значительное сродни фрагментарному, что, однако, не исключает возможности того, что места «неготовности» могут быть указаны — быть может, как раз потому, что работа эта предшествует «Пассажам». Ибо именно в этом и заключается ее «неготовость». Взаимоотношения между праисторией и современностью еще не возвысились до понятия, а удачливость интерпретации Кафки в конечном счете неминуемо зависит от этого. В этом смысле первый «холостой пробег» встречается в самом начале, в цитате из Лукача и в антитезе между эпохами и вечностями. Эта антитеза не может быть плодотворной просто как голый контраст, а лишь диалектически. Я бы сказал так: для нас понятие исторической эпохи как таковое неэкзистентно (как в той же малой мере мы знаем декаданс или прогресс в прямом смысле этих слов, который Вы здесь сами и разрушаете), а экзистентно только понятие вечности как экстраполяции окаменевшей современности. И я знаю, что по части теории Вы первый и радостней других меня в этом пункте поддержите. Однако в «Кафке» понятие «вечность» осталось абстрактным в гегелевском смысле (да будет между прочим замечено: поистине удивительно и, вероятно, не вполне Вами осознано, в сколь тесной связи стоит эта Ваша работа к Гегелю. Укажу только на то, что место о Ничто и Нечто острейшим образом сопряжено с первым гегелевским развитием понятия Бытие — Ничто — Становление, а что когеновский мотив обращения мифологического права в вину воспринят как от самого Когена, так и из иудаистской традиции, но, конечно же, и из гегелевской философии права). Все это, однако, свидетельствует не о чем ином, как о том, что анамнез или «забвение» праистории у Кафки толкуется в Вашей работе в архаическом, диалектически не переработанном смысле, что как раз и придвигает эту работу к началу «Пассажей». Я последний, кто имеет право тут Вас упрекнуть, ибо мне слишком хорошо известно, что точно такой же рецидив, точно такая же недостаточность артикуляции понятия мифа присуща и мне в моем «Кьеркегоре», где это понятие снимается как логическая конструкция, но не конкретно. Но именно поэтому я вправе на этот пункт указать. Кстати, недаром из всех толкуемых Вами историй одна — а именно история с детской фотографией Кафки — остается без толкования. Ибо истолкование ее было бы эквивалентно попытке нейтрализовать вечность с помощью фотовспышки. Этим же я намекаю на всевозможные мелкие несообразности in concreto — симптомы архаической скованности, не проведенной еще здесь мифической диалектики. Самая важная из них — это толкование Одрадека, ибо всего лишь архаично понимать его возникновение из «первомира и вины», а не перечесть его как тот самый элемент пролегоменов, который Вы так настоятельно зафиксировали до проблемы писания. У отца семейства ему самое место: разве не есть он его забота и его опасность, разве не намечено как раз в его образе снятие отношений вины со всего живого, разве не есть забота — вот уж где поистине с головы на ноги поставленный Хайдеггер — некий знак, больше того — твердая порука надежды, как раз в упразднении самого дома? Разумеется, Одрадек как оборотная сторона вещного мира есть знак искаженности, но в этом качестве и мотив трансцендирования, а именно устранения границ и примирения между органическим и неорганическим или мотив снятия смерти: Одрадек «выживает». Иначе говоря, вещественно исковерканной, вывернутой наизнанку жизни обещано высвобождение из природных взаимосвязей*. Здесь нечто больше, чем просто «облако», а именно диалектика, и образ облака надо не просто «разъяснить», но именно разложить диалектически, продиалектизировать — в известном смысле дать параболе, то есть облаку, излиться дождем; это и остается сокровеннейшей задачей всякой интерпретации Кафки, равно как и предельно четкая артикуляция «диалектического образа». Нет, этот Одрадек столь диалектичен, что впору и впрямь сказать о нем: «всего-то ничего, а результат блестящий». К тому же комплексу относится и место о мифе и сказке, в котором чисто прагматически надо бы первым делом придраться к утверждению, в котором сказка якобы выступает как «перехитрение» мифа или разрыв с ним — словно бы аттические трагики были сказочниками, кем они являются в самую последнюю очередь, и как будто ключевой образ сказки — не домифологический, нет, даже безгрешный мир, каким он и предстает нам в вещно зашифрованном виде. В высшей степени странно, что все фактические «ошибки», если в таковых работу позволительно упрекнуть, начинаются именно отсюда. Так, если, конечно, меня самым коварнейшим образом не подводит память, надписи на теле приговоренных к экзекуции в «Исправительной колонии» наносятся машиной не только на спине, но по всей поверхности кожи — ведь там даже идет речь о том, как машина их переворачивает (данный переворот — сердце этого рассказа, ибо сопряжен с моментом понимания; кстати, как раз в этом рассказе, основной части которого присуща определенная идеалистическая абстрактность, как и афоризмам, по праву Вами отвергнутым, не следовало бы забывать о намеренно диссонирующем финале с могилой губернатора под столиком кафе). Архаичным представляется мне и толкование театра под открытым небом как деревенской ярмарки или детского праздника — образ певческого праздника в большом городе 80-х годов был бы, безусловно, вернее, а пресловутый «сельский воздух» Морген-штерна всегда был мне подозрителен. Если Кафка и не основатель религии (а он — о, насколько Вы тут правы! — конечно же, никакой не основатель), то он, разумеется, и ни в каком смысле не поэт иудейской родины. Абсолютно решающими мне представляются здесь Ваши мысли о пересечении немецкого и иудейского. Привязанные крылья ангелов — это не их недостаток, а присущая им черта , крылья, эта допотопная мнимость, есть сама надежда, а иной надежды, кроме этой, не дано.

Именно отсюда, от диалектики мнимости как от доисторического модернизма, как мне кажется, всецело исходит функция театра и жеста, которую Вы первым столь решительно, как и подобает, поставили в самый центр. Лейтмотивы «Процесса» именно такого рода. Если же искать суть жеста, то искать ее, как мне кажется, надо бы не столько в китайском театре, сколько в «модернизме», а именно в отмирании языка. В кафковских жестах высвобождается тварь живая, в сознании которой слова отняты, отторгнуты от вещей. Вот почему она, безусловно, и открыта, как Вы говорите, глубокому раздумью или почти молитвенному изучению окружающего; что до «опробования», то мне кажется, ей это непонятно, и единственное, что представляется мне в работе чуждым привнесением, — это подключение категорий эпического театра. Ибо этот всемирный театр, поскольку играют в нем только для Бога, не терпит никакой точки зрения извне, для которой он был бы всего лишь сценой; как невозможно, по Вашим собственным словам, повесить в раме на стене настоящее небо вместо картины, столь же мало возможна и сама сценическая рама для такой сцены (разве что это будет небо над ипподромом), а посему к концепции мира как «театра» избавления, в самом безмолвном подразумевании этого слова, конститутивно принадлежит и мысль, что сама художественная форма Кафки (а отрешившись от идеи непосредственной поучительности, как раз художественную форму Кафки проигнорировать никак нельзя) к театральной форме стоит в крайней антитезе и является романом. Так что тут Брод с его банальным воспоминанием о кино, как мне кажется, куда более точен, чем сам, вероятно, способен догадаться. Романы Кафки — это не режиссерские сценарии для экспериментального театра, ибо в них принципиально не подразумевается зритель, способный в эксперимент вмешаться. Они есть нечто совсем иное — это последние, исчезающие пояснительные тексты к немому кино (которое совсем не случайно почти в одно время со смертью Кафки исчезло); двусмысленность жеста есть двузначность между погружением в полную немоту (с деструкцией языка) и возвышением из нее в музыку; так что, по-видимому, наиболее важное звено в констелляции «жест — животное — музыка» — это изображение безмолвно музицирующей собачьей группы из «Исследований одной собаки», которые я без малейших колебаний ставлю в один ряд с «Санчо Пансой». Возможно, подключение их в сферу Вашей работы многое прояснило бы. Насчет фрагментарного характера позвольте только еще заметить Вам, что соотношение между воспоминанием и забвением, безусловно центральное по своему значению, мне у Вас еще не вполне ясно и, вероятно, могло бы быть сформулировано с большей однозначностью и твердостью; курьеза ради позвольте мне еще в связи с Вашим рассуждением о «бесхарактерности» вспомнить, что я в прошлом году написал маленькую вещицу под названием «Под одну гребенку», где я таким же образом трактовал распад индивидуального характера как явление вполне позитивное; а как еще один курьез позвольте Вам поведать, что прошлой весной в Лондоне я написал вещицу о бессчетном количестве пестроцветных разновидностей лондонских автобусных билетов, которая загадочным образом соприкасается с местом о цветах и красках из «Берлинского детства», которое мне показала Фелици-тас. А прежде всего позвольте мне еще раз подчеркнуть значение Вашей мысли о внимании как молитве. Я не читал ничего более важного у Вас — и ничего, что давало бы столь же точное представление о самых сокровенных мотивах Вашей мысли.
Мне почти хочется думать, что Вашим «Кафкой» замолено святотатство нашего друга Эрнста.

Беньямин — Адорно (Сан-Ремо, 07.01.1935)
(…) Относительно Вас я предполагаю то же самое и приступаю теперь к ответу на Ваше большое письмо от 17 декабря. Делаю это не без колебаний — письмо Ваше столь весомо и столь глубоко ухватывает самую сердцевину дела, что я почти не имею надежды соответствовать ему в эпистолярной форме. Тем важнее для меня в первую очередь заверить Вас в той большой радости, которую вызвало во мне Ваше столь живое участие в моих усилиях. Письмо Ваше я не просто прочел — я его изучил; оно требует самого пристального, фраза за фразой, обдумывания. Поскольку Вы точнейшим образом распознали мои интенции, Ваши указания на недочеты имеют для меня огромную значимость. В первую очередь это касается замечаний, которые Вы сделали относительно недостаточного преодоления архаического; а значит, самым первостепенным образом касается Ваших сомнений в вопросе о вечности, эпохах и забвении. Кстати, я без всяких возражений признаю резонность Ваших возражений насчет термина «опробование» и с благодарностью постараюсь воспользоваться Вашими чрезвычайно значительными замечаниями относительно немого кино. Очень помогло мне и указание, столь настоятельно сделанное Вами по поводу «Исследований одной собаки». Как раз эта вещь — пожалуй, единственная — еще в ходе моей работы над «Кафкой» неизменно оставалась для меня непонятной, чуждой, и я знал — кажется, даже говорил об этом Фелицитас, — что это произведение еще должно вымолвить мне свое заветное слово. Теперь, благодаря Вашим замечаниям, эти ожидания сбылись.
После того, как две части эссе уже увидели свет, открыт путь для создания новой редакции; правда, имеет ли этот путь в качестве конечной цели публикацию расширенного варианта работы в форме книги у Шокена — это еще большой вопрос. Переработка, сколько я сейчас могу судить, затронет в наибольшей мере четвертую часть, которая, несмотря на значительность — а быть может, даже чрезмерность — сделанного в ней акцента, не побудила к высказыванию даже таких читателей, как Вы и Шолем. Кстати, среди голосов, по этому поводу раздавшихся, присутствует даже голос Брехта; таким образом, вокруг эссе образовался весьма интересный хор, в котором мне еще многое предстоит услышать. Первым делом я завел досье заметок и рассуждений, о проецировании которого на первоначальный текст пока не помышляю. Они группируются вокруг соотношения «притча — символ», в котором, как мне думается, я более точно на мыслительном уровне нащупал определяющую творчество Кафки антитезу, чем противопоставление «парабола — роман». Более точное определение романной формы у Кафки, в необходимости которого я с Вами совершенно солидарен и которого пока что нет, может быть достигнуто лишь окольным путем.
Очень бы хотелось — и пожалуй, это не столь уж маловероятно, — чтобы некоторые из этих вопросов еще оставались открытыми до тех пор, когда мы сможем увидеться в следующий раз.
Адорно — Беньямину (Хорнберг, 02.08.1935)
Понимать товар как диалектический образ — это значит понимать его именно как мотив его гибели и его «снятия», а не просто как мотив его регрессии относительно прошлого. Товар, с одной стороны, это отчужденное, в котором отмирает потребительная стоимость, с другой — выживающее, которое, став чужим, переносит, выдерживает эту непосредственность. В товарах — и вовсе не для людей — мы имеем обещание бессмертия, а фетиш — в продолжение совершенно верно статуированной Вами связи с книгой о барокко — для девятнадцатого столетия коварный последний образ, вроде черепа. Где-то тут, как мне кажется, кроется решающий познавательный смысл созданий Кафки, в особенности его Одрадека, как бесполезно выживших товаров: в этой сказке сюрреализм, по-моему, обретает свое завершение, как трагедия — в «Гамлете». В сугубо внутриобщественном смысле это свидетельствует не только о том, что одного понятия потребительной стоимости ни в коей мере не достаточно для критики характера товара, но и о том, что оно отбрасывает нас в период до разделения труда. В этом всегда было существо моих возражений против Берты, вот почему и ее «коллектив», и ее непосредственное понимание своих функций всегда оставались для меня подозрительными, так как сами являют собой «регрессию».
Беньямин — Адорно (Париж, 19.06.1938)
Два слова о моих литературных делах последнего времени. Кое-что о них Вы, возможно, слышали от Шолема, в особенности о моих занятиях биографией Кафки в исполнении Брода. По такому случаю я и сам воспользовался возможностью набросать кое-какие замети о Кафке, которые исходят из иных предпосылок, чем мое эссе.
При этом я снова с большим интересом проштудировал письмо Тедди от 17 декабря 1934 года. Насколько основательно и весомо оно, настолько же дырявым и легковесным оказалось сочинение о Кафке Хазельберга, которое я тоже обнаружил среди своих бумаг.
Беньямин — Адорно (Париж, 23.02.1939)
Вы видите, как я Вам признателен за Ваши побудительные замечания относительно типа и типического. Там, где я вышел за их рубежи, это было сделано в первоначальном смысле самих «Пассажей». Бальзак при этом как-то сам собой улетучился. Он приобретает здесь только
Беньямин — Адорно (Париж, 07.05. 1940)
Нетронутой остается одна страница из эссе о Гофманстале, которая мне особенно дорога. Юлиан, человек, которому недостает лишь крохотного усилия воли, одного-единственного момента самоотдачи, чтобы приобщиться к высшему, — это автопортрет Гофмансталя. Юлиан предает принца: Гофмансталь отвернулся от задачи, которую он себе поставил. Его «безъязыкость» была своего рода наказанием. Язык, от которого Гофман-сталь отвернулся, — это, очевидно, тот же самый язык, который как раз об ту же пору был дан Кафке. Ибо Кафка взвалил на себя задачу, в решении которой Гофман-сталь морально, а потому и поэтически потерпел крах.
Перевод: Михаил Рудницкий
