Inside/Outside как технология
Все принимает формы, даже бесконечность.
Гастон Башляр, Поэтика пространства, 1958
Как поймать льва в пустыне?
Когда для конференции Космос внутри мне было предложено поразмыслить над вопросом дефиниций касательно аутсайдерского искусства и более широко — о том, что внутри, а что снаружи определенных терминов, — мне вспомнился знаменитый анекдот, который часто рассказывают студентам дисциплин естествознания. Анекдот начинается задачей, над которой пригласили поразмыслить группу ученых. Звучит она абстрактно: как словить льва в пустыне? Теоретики, каждые внутри своих дисциплин, берутся искать решения, задействующие методы математики, теоретической и экспериментальной физики, а также постоянно пополняющийся ряд других. Например, в методе инверсивной геометрии можно поместить в заданную точку пустыни клетку, имеющую форму окружности, затем зайти в нее, запереться изнутри и произвести инверсию пространства по отношению к клетке: теперь лев внутри клетки, а ученые — снаружи. Метод Шредингера предлагает построить клетку в произвольном месте пустыни и сделать расчеты: существует отличная от нуля вероятность, что лев сам окажется в клетке. Топологический метод предлагает перевести пустыню в четырехмерное пространство, что деформирует льва таким образом, что по возвращении в трехмерное пространство он окажется завязанным в узел и в таком состоянии будет совершенно беспомощен [1].
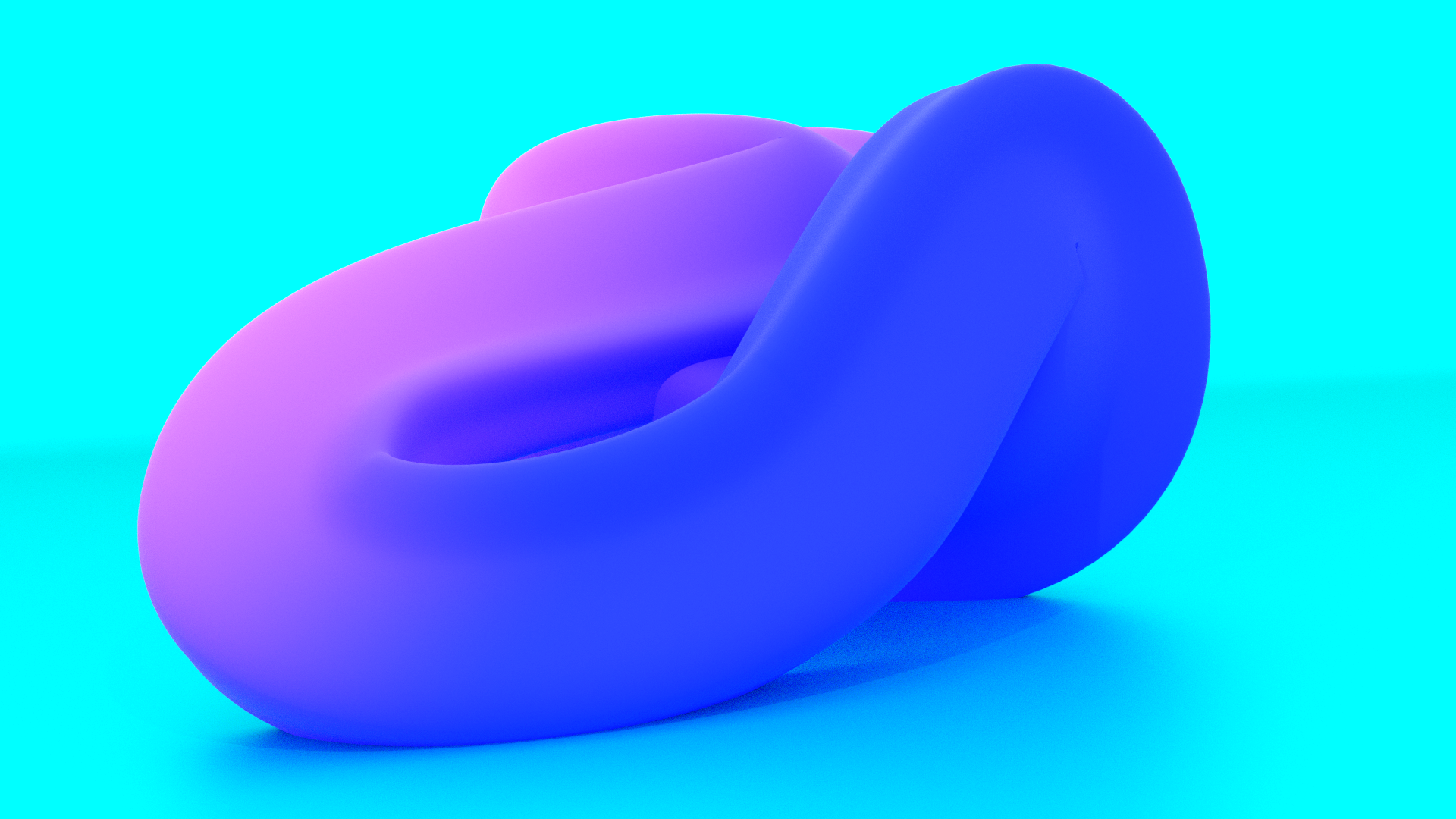
Начинаю я с такого анекдота по ряду причин. Во-первых, в такой ироничной форме мы сразу же можем понять, что любые дефиниции существуют внутри своих методов и дисциплин и являются местом оспоримым. Во-вторых, наука как ничто другое повлияла на модерное воображение, внутри которого появились феномены, которые мы с вами сегодня пересматриваем. Просветительское скрупулезное деление всего на отдельные предметы познания и категоризация как исходный и базовый инструмент, предшествующий последующему описанию и осмыслению объекта, — приводит к появлению дисциплинарных границ, среди которых, в конечном итоге, находит себя и искусствоведение, предлагающие термины аутсайдерского или наивного искусства. В-третьих, завязанный в узел лев открывает для нас дополнительные возможности, а именно помыслить внешнее и внутреннее искусства, применяя иные методы.
Эти несколько вводных будут в основе размышлений ниже. Сегодня я сначала проблематизирую саму эпистему Просвещения, а затем перейду к её операционным понятием границ, против или вдоль которых в разной степени выступает осмысленная современность: от все более размытых дисциплинарных границ до более конкретных — институциональных и национальных. Рассматривая понятия внешнего, внутреннего и границы которая их разделяет (или сообщает!) как эпистемологическую категорию, я сфокусируюсь не только на деконструкции этих терминов, но и на новых инструментальных применениях, которые становятся возможными сегодня.
Карта — это не территория
В устоявшемся (европоцентричном) искусствоведении понятия искусства аутсайдеров, наивного или примитивного искусства опираются на некоторые характеристики, считавшиеся дефолтными, но представления о которых стремительно устаревают либо требуют пересмотра. Поэтому эти понятия можно услышать все реже или с рядом обязательных поправок. Они тем более усложнены в украинском контексте, где поправок требует сама история искусства. Так уже ставшее популярное представление об аутсайдерах, наивных художниках или примитивном искусстве говорит о
Я предлагаю начать с разбора “конвенционального мира”, в который якобы не вписывались аутсайдеры, и из которого искали лазейки или которым вдохновлялись инсайдеры искусства. А также — c тропа инфантилизации, согласно которому до искусства требуется метафорически или биологически дорасти. В популярном воображении границы этого мира начинаются на пороге музея — главной фигуры эпохи Просвещения. Музей все еще зачастую представляют как храм истории и нейтральный контейнер, который объективно вмещает в себя артефакты времени. Тем не менее, также становится общим местом понимание о том, что сам механизм включения чего-либо или кого-либо в музейный контекст является активным инструментом создания конвенциональной истории.
Говоря о Просвещении, мы начинаем с декартовского примата разума над чувственным восприятием, с Энциклопедии Дидро, с самой возможности автономного суждения, которое лежит в основе философского осмысления времени, из которого как параллельные процессы берут свое начало наука, государство и в том числе — музей. Уже с семнадцатого века картезианская логика делит фундаментальные отношения на изолированные вещи, отделяя субъективный опыт от объективного мира, и предлагая такую модель правды, в которой первое подчинено последнему. Здесь возникаютдва центральных нарратива модерности — таксономия и линейность времени как некая схема воображения будущего. Музей становится местом, которое воплощает идею классификации и номенклатурной практики; он также становится площадкой для создания соответствующего национального нарратива. Здесь работа с прошлым и настоящим гарантирует прогрессирующе будущее.
Эти процессы напрямую сопряжены с практиками картирования, которые, по сути, обусловили нынешнюю геополитическую логику. “Великие открытия” (их мы, конечно, сегодня тоже берем в кавычки) “создали” мир в его нынешнем виде, нанеся его на карту и создавая границы в том понимании, в котором они утверждаются с возникновением национальных государств — как инструмент разделения и исключения. Мы помним, что музеи возникли
Характеристикой поздней европейской истории является стремление провести линию: между Человеком и Природой, объектами и субъектами, между воплощением “духа времени” и “пылью истории”. Появление представлений о центре и периферии как о географических объектах — продукт такого картирования. Здесь Европа представлена уникальным форпостом мысли и мировым центром гравитации, некой онтологической реальностью, двигателем прогрессивных исторических перемен, одной легитимной культурой, одним нарративом, одной траекторией, одним путем эстетической работы. В это же время на периферии находятся не разумы, а тела, сырой материал для лепки, ресурс. Мир делится на развитый и развивающийся — последний обречен все время подтягиваться экономически и культурно, обречен на повторение истории первого мира [3]. Здесь важен сам инфантилизирующий троп западной культуры, который и легитимизирует представления о “наивном” и “примитивном” искусстве. В таком контексте, о включенности и невключенности мы можем говорить в таких плоскостях: физическая/пространственная/территориальная невключенность, которая опирается на онтологические представления о том, кто и что попадает в музеи; и темпоральная — соответствует ли это кто и что прогрессивному нарративу заданного вектора времени [4].

In/Outside как технология
Сегодня мы говорим о гораздо более глубокой взаимопроникающей связи внешнего/ внутреннего и пористой структуре этих границ. Внешнее, внутреннее и граница, которая их разделяет (или сообщает), является одной из ключевых тем послевоенного мира и тем более — мира после Холодной войны. Надо сказать, в двадцатом веке странное происходит и с пространством, и с временем: их границы начинают расползаться, ускользать, исчезать или трансформироваться. От буквального сворачивания колониальных проектов и возникновения суверенных субъектов — до гетеротопии, стирания границ и, если заимствовать формулировку теоретика постмодерна Фредерика Джеймсона, — “эрозии разделения”. Мир все больше становится похожим на знаменитый отель Бонавентура, где входы и выходы неочевидны. Обещание глобализованного мира окончательно стереть ускользающую линию на поверку требуют все больше границ, борьбы и сопротивления.
В этом процессе особую роль играют новые режимы видимости, которые вопреки доступу ко всему на микро- и макроуровнях еще более сбивают с толку. Новое время показало, что классическое картирование сопряжено с господством; что существуют другие формы отношений с временем и пространством; что история множественна, гибридна и неравномерно распределена. Что существует множественность исторических траекторий, ритмов и темпоральностей, которые необходимо учесть, говоря об историях и “измах”. Парадокс современности приходит с эмансипацией, но чем больше голосов, тел и мыслей видно и слышно, тем меньше понимания, что куда отнести. Очевидно, старая таксономическая модель, опирающаяся на жесткие иерархии и вертикали больше не подходит. Линейный нарратив с его дарвинистским развитием цивилизаций больше не подходит. Равно как и постмодерное смешение всего со всем, потеря границ и самой возможности истины: кто-то все равно остается исключенным, невидимым или видимым —как ресурс или как субъект истории.
Так как мы можем говорить про включенность и аутсайдерство теперь?
Я предлагаю посмотреть на пространство включенности и исключенности как некий репрезентационный троп или способ обрамления пространственно-темпоральных отношений, имеющий определенные материальные последствия. Для начала будет полезным пошатнуть устойчивое представление о пространстве внешнего и внутреннего. В философии есть традиция, согласно которой концепции представляют в виде окружности или огражденного места, которое включает в себя все отдельные единицы, к которым отсылает термин. В таком случае нечто сущее редуцировано к дизъюнкции: оно либо внутри, либо снаружи. Такая модель является крайне геометричной, чрезмерно визуальной, упрощающей и побуждающей к мысли, что контуры на самом деле существуют в природе. В последние лет семьдесят гуманитарии всячески пытаются такую позитивистскую логику пошатнуть.
Феноменолог Гастон Башляр, который начинает как философ науки, в тексте “The Dialectics of Inside and Outside” (1957) говорит о том, что усиленная геометризация внутреннего и внешнего создает барьеры и ограничения для возможностей познания. Взамен он предлагает поэтичную топографическую форму — двери, как способ сделать возможным переход из одного пространства в другое. Дверное отверстие представляет собою пересечение порогов, переход между мирами, свободу от ограничений упрощающей метафизики. Метафора позволяет сделать этот переход, ее роль — в создании новых значений [5]. Искусство как будто естественным образом начинает восставать против предложенных контуров, занимая, уже с конца 18 века окраину философии все больше отстаивая те аспекты опыта, которые сопротивляются простой категоризации: эмоции, красоту, изменчивые удовольствия чувственного; а позже — сопротивляясь простой категоризации тел и личных историй. Намного раньше, чем искусство было легитимизировано как место производства знаний, оно стало прибежищем амбивалентности. Оно сопротивлялось той двери, которая, согласно логикам, либо открыта, либо закрыта.
Для нас здесь также важно, что можно проблематизировать репрезентацию внутреннего и внешнего как гомогенных пространств и заодно усложнить и теоретизировать их диалектические отношения. В этом я вижу возможность отойти от их онтологических представлений, которые классифицируют, что по существу принадлежит к внутри, а что — к снаружи. И вместо этого рассмотреть их как эпистемологическую категорию: внешнее или внутреннее — это не
Темпоральный аспект здесь также должен быть учтен. Критическая теория теория дала нам представление о том, что структура и материя не фиксированы, но всегда определены взаимодействиями между историей и материалом. Таким образом, социальное конструирование внешнего и внутреннего также может быть продуктивной аналитической рамкой. Конструирование этих пространств происходит через практики репрезентации, поэтому внутреннее и внешнее можно понимать как ситуативные отношения — определяемые теми, кто производит культуру, теми кто её потребляет и формирует значения [6]. Это не вопрос онтологический: кто является ин/аутсайдером, это вопрос эпистемологический: как проявляются ин/аутсайдером. Другими словами, от идеи о фиксированной сущности предмета или явления мы переходим к системе взаимоотношений в конкретном времени и пространстве, в которой возникает знание о предмете или явлении.
Еще один подход, которым мы могли вдохновиться в анекдоте про льва — топологический. Уже в конце 20—начале 21 века и до сегодня все более актуальной становится топология, которая предлагает новую математическую формализацию отношений между временем и пространством. Опять же, если со времен Просвещения, количественное измерение понималось как абстрактная и объективная экстракция значений из мира — значений нейтральных, которые при тщательном и систематическом анализе могли предоставить информацию о “правдах” этого мира, — то в современном философском осмыслении, как мы знаем от Делеза и Гваттари, число больше не является универсальным концептом измерения элементов, согласно их размещению в данном измерении, но само по себе становится множественностью, которая варьируется, согласно учтенным измерениям [7]. Топологический подход также математичен, но понимает пространство как поле возможностей, а не изолированных точек.
Такое представление продуктивно для понимания и создания механизмов, которыми оперирует эстетика и более широко — культура. В нашем случае, концепция внутреннего или внешнего является сложной, поскольку не может быть сведена к одному набору параметров. Одно и тоже может оказаться по разную сторону меняющейся границы одновременно. Но, в отличие от бинарных представлений, топологическое мышление учитывает гетерогенные пространства, не подчиняющиеся простой логике включения/исключения [8]. Сама же разделительная линия приобретает новые возможности в амбивалентности самого понятия границы. Топологическая функция границ в том, что они одновременно соединяют и разделяют, пересекают и разрезают пространство, включают и исключают [9]. Граница может принимать множество операционных значений как в равной степени и понятие исторически специфическое, и одновременно —субъект перемен. Граница может быть инструментом контроля равно как и инструментом расширения свободы и равенства. Граница может быть репрезентативной стратегией. Может быть стратегией соединения борьбы локального уровня с глобальными событиями. Она может служить для конструкции политического инструмента, или как базис для построения солидарностей, как некий этический каркас, как способ построения европейской темпоральности и как способ противостояния ей же. Думая про разделяющую линию не геометрически, а как связующее звено в сети взаимодействий, мы можем не только аргументировать включение и исключение, но и борьбу, которая происходит вдоль линий размежевания. Определять художественное явление, артефакт, фигуру производящего смыслы не по фиксированной характеристике, а по их месту в многомерных отношениях и станет тем аналитическим инструментом который позволит не только артикуляцию явлений, но и активный процесс трансформаций.
Эпилог
В своем докладе я не фокусировалась на примерах украинского “аутсайдерского” или “наивного” искусства как его понимает данная конференция именно потому, что эти термины сильно коннотированы онтологически: кто такой аутсайдер? Кто мы, раздающие эти названия? Вместо этого я предлагаю смотреть на включение и исключение, ин- или аутсайд эпистемологически, и этот метод применим для последующего размещения в специфическом украинском контексте.
Скажем, в позднем советском и постсоветском искусствоведении все ещё можно встретить понятия “официального” и “неофициального” искусства, которые часто заходят в тупик именно
1. “Как поймать льва или слона в пустыне. Теория охоты на львов и слонов,” добавлено в LiveJournal 10 октября 2016 пользователем nktl. https://bit.ly/2YT0m0J, последний доступ 1 сентября 2020.
2. Mezzarda S., Neilson B. Between Inclusion and Exclusion: On the Topology of Global Space and Borders // Theory, Culture & Society. 29 (⅘). 2012. pp. 58–75.
3. Shohat E., Stam R. Narrativizing visual culture. Towards a polycentric aesthetics // The Visual Culture Reader [ed. Nicholas Mirzoeff]. Routledge, 1998. pp. 27–29.
4. Такое понимание само по себе инструментально. Например, в начале двадцатого века, африканская маска не считается искусством, она локализована за периметром центра, если говорить о географическом пространстве и его подчиненном положении. Если она и оказывается в пространстве музея, то как артефакт “примитивного” самовыражения “нецивилизованых” этнических групп; ее включение является формой усиления механизма создания другого (othering), формой усиления границы. Она не считается включенной в искусство и темпорально, поскольку не является артефактом, посредством которого себя создает и легитимизирует европейское время. В том числе — и посредством гендерных, классовых, институциональных, дисциплинарных делений. Поэтому еще полстолетия после того, как в 1907 году Пикассо представляет публике Авиньонских девиц, восхищенные критики будут говорить об их лицах как о лицах уставших испуганных проситуток и матерей кубизма, вписывая этот живописный жест в историю модерного времени, которое подрывает каннон, но все же прогрессирует в заданном направлении. Только век спустя ревизионизм в гуманитарных науках позволяет нам говорить об уникальном гении Пикассо с поправками, ведь лица Авиньонских Девиц вторят африканским маскам, увиденным художником на африканской выставке в Париже. На таких выставках, надо понимать, в то время экспонировалось добро, привезенное из колоний; там же экспортировали черных людей, что еще до середины 20 века считалось нормальной практикой. Тут маски и черные люди не являются субъектом искусства и истории, но лишь анонимно их подпитывают.
5. Bachelard G. The Dialectics of Inside and Outside» (1957) // The Continental Aesthetics Reader [ed. Clive Cazeaux]. Routledge: 2011. pp. 172–185.
6. На концептуализацию этих пространств меня вдохновил текст Jones K.T. Scale as epistemology // Political Geography. Vol. 17, No 1. 1998. pp. 25–28.
7. Dixon-Román E. Algo-Ritmo: More-Than-Human Performative Acts and the Racializing Assemblages of Algorithmic Architectures // Cultural Studies ↔ Critical Methodologies 2016. Vol. 16 (5). 2016. pp. 482–490.
8. Parisi L. Digital Design and Topological Control // Theory, Culture & Society. 29 (⅘). pp. 165–192.
9. Mezzarda S., Neilson B. Between Inclusion and Exclusion: On the Topology of Global Space and Borders // Theory, Culture & Society. 29 (⅘). 2012. p. 63.
10. Последнее предложение опирается на текст Донны Харауэй «Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective» (1988); мои размышления в целом оперируют в пределах феминистской эпистемологии и новых представлений о научной объективности.
Текст был написан для конференции Космос всередині в 2020 году и был впервые опубликован на украинском языке в одноименном сборнике под редакцией Алисы Ложкиной.
Иллюстрации: Соня Исупова
