Мария Виролайнен «Исторические метаморфозы русской словесности»
Публикуем фрагмент из книги Марии Виролайнен, в которой история русской словесности XI–XX веков описана как единый сюжет, развивающийся в соответствии с определенным структурным законом. В центре внимания — слово и история в их неразъемлемой связи. Русская словесность рассмотрена автором как грандиозное историческое предание, созидаемое то в летописях и житиях, то в стихах и романах. Но на первом плане — собственная история слова в контексте десяти веков русской культуры.
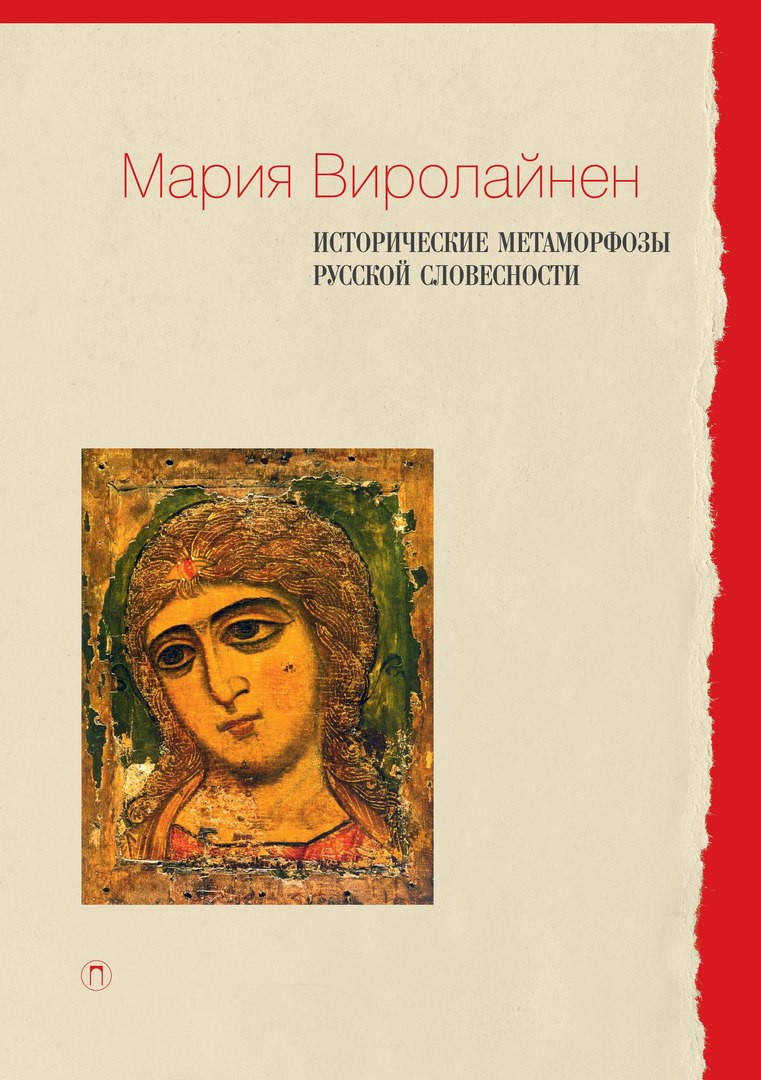
ВВЕДЕНИЕ
На протяжении десяти веков своего существования русская словесность служила историческому самоосмыслению нации: фиксировала факты, выстраивала мифы, складывала сюжеты, увязывала концы и начала, соотносила прошлое с настоящим и будущим,— иными словами, занималась интерпретацией исторического бытия. Всю совокупность сохранившихся текстов можно было бы рассмотреть как грандиозный миф русской истории или как вереницу
мифов, сменяющих друг друга, но и преемствующих один другому. «Текст» русской словесности, взятый под этим углом зрения, в
Рассмотрение русской словесности как единого текста, естественно, не исключает внимания к историческим трансформациям этого текста. Вполне очевидно, что природа слова и самый статус словесности менялись при переходе от одной эпохи к другой. Однако и переходы тоже могут быть описаны как некий единый сюжет, как некое структурное целое. Экспликация такого сюжетного и структурного единства и станет центральной задачей предлагаемого исследования.
В русской истории сменилось несколько эпох, отличных друг от друга не только ведущими идеями или ценностями, не только экономическими, государственными или идеологическими ориентирами — но именно ключевыми устрояющими принципами миропорядка. И хотя процесс этот происходил со свойственной истории прихотливостью, тем не менее в нем усматривается удивительный по своей строгости структурный закон. Систему категорий, пригодных для его описания, можно было бы ввести как исходную аксиоматику исследования, но более предпочтительным кажется другой путь. Попробуем вывести необходимые категории из тех представлений, которые свойственны были средневековому сознанию и попытаемся с их помощью описать дальнейшее развитие русской культуры, вплоть до современности.
«…искони бе слово и слово бе оу бога, и богъ бе слово…» — согласно Житию Константина, это первые слова, начертанные славянскими письменами. К той же первой главе Евангелия от Иоанна восходит по своей центральной идее Слово о законе и благодати2 — самый ранний (из сохраненных для нас историей) памятник собственно русской словесности. Евангелие от Иоанна с его словами о Слове оказывается, таким образом, отправной точкой для всего текста русской культуры.
Именно к этому Евангелию восходит логосное, софийное понимание слова, которое оформилось в первые же века русской письменности и сохранило свою актуальность до ХХ века. Существенно, что при этом речь всегда шла не только о том Слове, которое было «в начале», не только о библейском Божественном глаголе, исходящем непосредственно от Творца, не только о Логосе Христе, но и о том слове, которое читается, пишется, слышится и произносится на земле.
Как в Софии Творец, тварь и творчество слиты в неразъемлемое единство, так слиты они и в Слове1. Представление об этом единстве (Бог Слово — творение Словом — воплощение Слова), утвержденном Евангелием от Иоанна, актуализируется в первых же произведениях славянской и русской письменности. В Житии Константина тезис о творческой мощи слова выступает как отличительная черта новой религии. В ответ на тост хазарского кагана: «пиамь въ име бога единого, сътворшаго въсоу тварь», Константин провозглашает: «пию въ име бога единого и словесе его сътворшаго словомь въсоу тварь, им же небеса оутврьдишесе…».
Представление о путях воплощения Слова имело в русской культуре далеко идущие последствия. Предания о возникновении славянской письменности согласны в том, что славянское «слово буквенное» даровано было Константину Философу от Бога. Солунская
легенда (Слово Кырила Философа) вводит в мотивный состав этих преданий одну замечательную деталь. Однажды, в неделю Пасхи, выйдя из церкви, он увидел голубя говорящего, который держал в клюве свиток. В свитке Константин нашел все тридцать пять букв; когда он положил их себе на грудь и понес к митрополиту, они скрылись в его теле. После этого он забыл греческий язык — и смог написать тридцать пять букв для болгар3. Итак, буквы — этот, казалось бы, наиболее формальный, наиболее условный, технический, рукотворный элемент языка — проходят путь Логоса Христа. Как Слово, которое было у Бога, становится плотью, чтобы обитать с нами, так и буквы, дарованные свыше, сначала скрываются в теле Константина и лишь затем делаются достоянием народа.
Представление о том, что Божественное «слово буквенное» усваивается через плоть, через физическое к нему причащение, остается актуальным и в XV веке. Именно так происходит чудесное постижение грамоты Сергием Радонежским, описанное в его Житии. Проявивший неспособность к учению, он должен был получить книжную премудрость от Бога, а не от людей. Ангел, явившийся ему в образе старца, подал отроку нечто похожее на «малъкусъ бела хлеба пшенична, еже от святыя просфиры». По вкушении этого дара, сладкого как мед, мальчик тотчас же овладел грамотой. Событие комментируется цитатой из Иеремии: «Тако глаголеть господь: „Се дах словеса моя въ уста твоя“»2. Слово входит в уста как плоть — как освященная плоть, подобная святым дарам.
В Прогласе к святому Евангелию Константина Философа и в связанном с ним в целом ряде моментов Слове о законе и благодати мотивы облачения в плоть, облачения во Христа и облачения в слово явственно параллельны друг другу: Христос одевается в плоть, Владимир облачается во Христа4, народы облачаются в слово книжное. Бог, слово и плоть подобны друг другу. Как Бог есть одновременно слово и плоть, так слово одновременно является Богом и плотью. Что же касается тварной плоти (человека), то она облекается в слово и причащается Божеству.
В Прогласе Константина Философа «слово буквенное» выступает, подобно Христу, посредником между Божеством и естеством, причастное им обоим, служит связующим началом между ними. То же представление явственно ощутимо и в Слове о законе и благодати. Вытекающее из учения о Христе Логосе и распространенное богословской традицией на слово Священного Писания, это представление на славянской и русской почве постепенно оказалось перенесенным на слово как таковое. Уже сама переводческая деятельность Константина вела к преодолению границ, отделяющих профанное слово от сакрального. Показательно негативное от ношение к этой деятельности венецианского синода, указавшего Константину, что Бога подобает славить лишь на трех языках, освященных надписью на кресте: на еврейском, эллинском и латинском. В глазах своих оппонентов Константин недвусмысленно выступал как нарушитель традиции.
Самые древние из известных нам текстов русской словесности имеют своим предметом русскую историю. Строившиеся с учетом освященных традицией образцов, они нарушали традицию введением в нее этого нового предмета, ибо история «новых людей», в отличие от истории священной Византийской империи, не имела в своем основании сакрального статуса. Слово о законе и благодати и Повесть временных лет главной своей заботой имеют оправдать, доказать и утвердить этот статус — а значит, совершить еще один сдвиг между сферой профанного и сакрального.
Если Слово митрополита Илариона едино по своим жанрово-стилевым основаниям как слово ораторское, проповедническое, церковное, то уже Повесть временных лет дает гораздо более сложную картину. Библейское и церковное слово соседствует здесь с документом, бытовой речью, фольклоризмами. И это отнюдь не конгломерат различных стилевых тенденций, а единое повествование, направленное к той же цели, что и Слово Илариона: ввести современную русскую историческую жизнь в состав священной истории. Как будет показано ниже, «профанные» фрагменты летописи служат этой цели с не меньшей активностью, чем те, что заимствованы из Священного Писания или восходят к нему.
На разных этапах развития русской культуры сакральное и профанное слово будут то размежевываться, то сближаться. Но вторая тенденция, заложенная на самом раннем этапе, не исчезнет и на другом конце исторической цепи. Она будет получать то катастрофическую, то гармоническую реализацию. Это она окажется камнем преткновения для Гоголя, это она позволит трактовать слово Достоев ского как софийное1, это она даст возможность мыслителю ХХ века утверждать, что человеческое слово едино со Словом Божественным:
«…язык — вечный, незыблемый, объективный разум, пре человеческий Логос и он же — бесконечно близкий душе каждого, ласково-гибкий в своем приноровлении к каждому отдельному сердцу, всегда индивидуальный, в каждый миг свой, в каждом своем движении—
индивидуальность выражающий… <…>…личная наша мысль опирается <…> на вселенский Логос <…>. Нет индивидуального языка, ко торый не был бы вселенским в основе своей; нет вселенского языка, который не был бы в явлении своем — индивидуальным».
Единство, едва ли не тождество индивидуального слова и Логоса — это, разумеется, крайне заостренная формулировка описываемой тенденции (хотя даже спектр словарных значений самого слова «слово» свидетельствует в пользу такого единства). Осторожнее было бы говорить о том, что русская словесность выработала концепцию слова, произносимого на земле, как подобия Логоса (именно подобия, а не тождества), причастного и к плоти, и к Божеству.
Зафиксировав такую картину на двух концах тысячелетнего отрезка исторического времени, мы, разумеется, не собираемся утверждать, что на протяжении десяти веков она оставалась неизменной. Картина эта, будучи исходной, неоднократно и кардинально трансформировалась. Описание ее трансформаций дает тот срез истории слова русской культуры, который не находит своего специального отражения ни в рамках истории литературы, ни в рамках истории литературного языка. Опытом подобного описания и служит эта работа.
Являясь подобием Логоса, слово в то же время является подобием космоса. Космос противостоит хаосу как устроенный, организованный, упорядоченный универсум, как организованный образ мира, связи которого с наибольшей полнотой запечатлены в слове. Воспользовавшись строкой Пастернака, можно определить космос как «образ мира, в слове явленный».
Каждая культура строит свой космос. Казалось бы, можно сказать и иначе: каждая культура строит свое представление о космосе, высказывает свое слово о мире. Но представления, выработанные культурой и запечатленные в слове, суть не что иное, как система различений, выделяющих реалии мира, и система связей между этими реалиями. А человек всегда живет и действует в мире сообразно с тем, какие реалии он признает существующими, а также и с тем, какие связи между этими реалиями он устанавливает. Иными словами — человек живет и действует сообразно миропорядку, выработанному и утвержденному его культурой. Понятие «культурный космос» будет трактоваться в данной работе как обозначающее определенный порядок, утверждаемый и поддерживаемый в мире тем или иным типом культуры.
Внутренние принципы устроения культурного космоса исторически изменчивы. Когда они меняются столь радикально, что можно говорить о смене культурных эпох, происходит перестройка фундаментальных уровней культурного космоса. А поскольку в задачу настоящего исследования входит типология культурных эпох русской истории, то для решения этой задачи необходимо осуществить различение основных структурных уровней культурного космоса. Логосное, софийное понимание слова позволяет вывести их из самой сущностной природы слова, экстраполировав содержащиеся в ней связи на осмысленный словом мир.
Два уровня мы, собственно говоря, уже указали, демонстрируя связь слова с плотью и с Божеством. Но обозначив их подобным образом, мы получим возможность говорить только о религиозном, богословском содержании, а между тем нам нужны понятия, которые описывали бы также и фольклорное, и позднейшее секуляризованное сознание. Поэтому, отталкиваясь от самых ранних текстов древнерусской словесности, попробуем найти такие понятийные эквиваленты религиозной мысли, которые, соответствуя ей, имели бы более широкий спектр применения, были бы действительны в тех областях, которые от нее независимы.
«Плоть», «плотное» («плътьнее») измерение мира, его материя, его непосредственная данность составляет тот уровень культурного космоса, с которым слово связано в рамках любой эпохи и — равным образом — в пределах церковного, фольклорного и светского сознания. Поэтому выделение этого уровня не составляет проблемы. Назовем его уровнем непосредственного бытия, подчеркнув с помощью такого обозначения исходную (но только исходную!) неопосредованность тех реалий, которые принадлежат к данному уровню.
Гораздо сложнее найти понятийный эквивалент другого полюса, с которым связано слово в древнерусской традиции. Поскольку нашим предметом является не богословие, мы будем говорить не о Божественном начале как таковом, а о том, как мыслится его участие в мироустроении. Коль скоро культурный космос мы определили как порядок, устанавливаемый тем или иным типом культуры, верховным уровнем его структуры будет, естественно, тот, который выполняет функцию регулятора этого порядка. В рамках церковного сознания такая функция безусловно является Божественной прерогативой. Существенно, однако, что эта функция оказывается дифференцированной уже на очень раннем этапе русской рели гиозной мысли.
Подробно развернутое Иларионом различение Закона и Благодати, связанное с противопоставлением иудаизма и христианства, касается не только этого конфессионального аспекта. Для нашей темы важнее, что различенными оказались способы Божественного участия в земной жизни. Сразу же подчеркнем, что Илларион отвергает Закон лишь до известных пределов: он отвергает Закон, не приемлющий Благодати, не признающий своей служебной по отношению к ней роли. В том же случае, когда принята и признана Благодать, Закон оказывается необходимым и благодетельным. Константин и Владимир креститель прославляются за то, что установили закон. И речь идет не о государственном, а о религиозном законе.
В чем же разноприродность Закона и Благодати? Через Закон дано оправдание, через Благодать — спасение. Оправдание — в сем мире есть, спасение — в будущем веке. Закон записан на скрижалях, Благодать ведет «въ обновление пакыбытиа, въ жизнь вечную». Следуя за Посланием апостола Павла к Галатам, Иларион говорит: образ Закона и Благодати — Агарь и Сарра. Неплодность Сарры, родившей, по Божьему Промыслу, лишь на старости лет, объясняется так: «Безвестьная же и таинаа премудрости Божии утаена бяаху ангелъ и человекъ, не яко неявима, нъ утаена и на конець века хотяща явитися». Благодать, таким образом, связана с областью утаенного, невидимого, неявленного — хотя и «явимого». За способность уверовать в невидимого Христа, «невидимаго възлюбити» — особая и пространная похвала князю Владимиру. Многократно подчеркнуто, что он не видел Христа, не ходил за ним — и все же испил «памяти будущее жизни сладъкую чашю». На Владимире сбылось благословение Христа: «Блажени не видевше и уверовавше»4. В противоположность Благодати Закон явлен. Как говорит Павел в том же Послании к Галатам, закон, никак не противный обетованиям Божиим (Гал. 3: 21), связан с вещественными началами мира (Гал. 4: 3).
Уже в данном контексте можно выявить описание двух различных способов мироустроения, имеющих Божественное происхождение. Один из них — явленный и овеществленный, другой — связующий мир с теми сферами, которые «невидимы», таинственны, неовеществляемы.
Довольно близкий аналог подобной системе различений можно найти в европейской экзегетической традиции, выделяющей несколько уровней истолкования священных текстов. Триединство тела, души и духа, составляющее природу человека по подобию трехипостасной природы Божества, было положено Оригеном в основу различения в тексте смысловых уровней: телесного, душевного и духовного1. Первый из них имеет явственное соответствие тому уровню, который мы обозначили как уровень «непосредственного бытия», а третий, иерархически высший, — невидимой, неовеществляемой и ближайшей к Богу реальности («благодати и истине»). Посредничающий между ними уровень «души» близок по своей функции к той роли, которую выполняет слово как посредник между «плотным» и Божественным началом мира. «Духовный» смысл, в позднейшей традиции переименованный в «анагогический» (он выражает вещи, причастные вечной славе), во многих экзегетических построениях расщепился на «символический» и «аллегорический». Символический смысл оставался принципиально не воплощаемым в своей полноте и в то же время — верховным. Аллегорический смысл понимался как смысл так или иначе предъявленный, имеющий эмблематическое или фигуральное закрепление.
Итак, мы видели, что Иларион различает два способа Божественного участия в мире, каждый из которых по своему регулирует и определяет миропорядок. Различение формализуемого и неформализуемого, явленного и неявленного принципов мироустроения характерно не только для Слова о законе и благодати. Так, например, в Шестодневе Иоанна экзарха Болгарского, рано ставшем известным на Руси, при описании порядка мироустройства используются парные определения: чин — и устроение, чин — и установленные пределы, чин — и устав: «То от того разумеютъ, колико зло есть еже свой чинъ комуждо преступати и уставныя пределы без боязни миновати». Развитие этой мысли подтверждает, что мы имеем здесь дело не с синонимией: «Море бо, бурями мутимо и надымающися на суседу землю и проливаемо, песка ся стыдитъ и нарочитых пределъ не рачитъ преступати, но <…> неписанный законъ видя, песком написанъ, и възвращается». Неписанный закон может быть явлен, написан — но оттого различие писанного и неписанного не снимается, а, наоборот, подчеркивается. Показательно, что в библейском тексте — источнике данного рассуждения — такого различения нет: «Иже положихъ песокъ пределъ морю, заповедь вечну, и не превзыдетъ его, и возмутится и не возможетъ: и возшумятъ волны его, и не прейдутъ того»
(Иер. 5: 22). Есть скорее синонимия границы и предела как установленного закона, который нельзя ни переступить, ни превозмочь. Выражение «уставныя пределы», использованное в Шестодневе (и отличенное в нем от понятия «чин»), близко по своему значению к выражению «законъ уставити» у Илариона.
То же тонкое различение можно предположить и в речи о пользе учения книжного в Повести временных лет (под 1037 годом). Здесь сказано, что от словес книжных мы обретаем мудрость и воздержание. Оба понятия тут же уточняются. С воздержанием оказывается связано представление об узде («узда въздержанью»). С мудростью (тождественной премудрости, прославляемой Соломоном) — о благодати. Активное взаимодействие со сферой неявленного укреплялось привычкой средневекового сознания членить тварный мир на видимый и невидимый. Видимое постигается телесными очами, невидимое — бестелесным умом. Любопытно, что, по Иоанну, телесные очи постигают «хорошее устроение» («доброту»), а бестелесный ум — «чин»: «Тако же и азъ не могу достойне тоя доброты и чина сказати, но самъ кождо васъ, очима плотныма видя и умомъ без
плотнымъ домышляя, паче ся можеть известнее чюдитися». Раз личение писанного и неписанного законов тем органичнее для Иоанна, что он различает творение из готовой материи и Божественное творение из небытия: «Не яце же бо суть инии творци — тии бо готовою вещью творят, а сий вся от небытиа изведе и дасть небывшимъ бытие»2. Причем творение из небытия рассматривается не как однократный акт сотворения мира «в начале», но как непрекращающаяся творческая активность: «Сице бо и древле сътвори, спроста же рещи, и по вся дни творить».
Разумеется, «телесным очам» предстоит не только «устроение» мира, его «уставныя пределы», но и его «пестрообразие» — видимый мир в его непосредственной данности. В Житии Сергия Радонежского обличен невежда, который смотрит «не <…> внутрьнима очима, но внешнима». Придя в монастырь, чтобы увидеть препо добного Сергия, этот человек не признал его, ибо настоятель монастыря копал землю в облачении нищего. «Сий же внешняа обзира ша, а не внутреняя».
Если теперь мы перейдем из сферы церковного сознания в сферу сознания фольклорного, то здесь мы, пожалуй, не найдем манифестированного различения явленного и неявленного принципов мироустроения. Тем не менее такое различение имеется, хотя оно обнаруживает себя совершенно иначе. Фольклорный мир, несомненно, подчиняется этим двум, по разному действующим, принципам его упорядочивания. Неявленный, неформализуемый, не подлежащий воплощению и фиксации активный принцип организации картины мира действует в рамках фольклора с безусловной отчетливостью. Как известно, фольклорные тексты выстроены по строгим законам; формообразование, «морфология» этих текстов строго регламентированы, бесконечная вариативность фольклорной речи всегда предопределена неким порождающим многообразие инвариантом. Между тем ни система жанров, ни законы формообразования, ни инвариант никак не предъявлены и не обозначены в пределах самого фольклорного сознания. Ученый может описать их и эксплицировать лишь потому, что делает это, находясь в метапозиции по отношению к фольклорному миру. Определяя народную традицию, Г.И. Мальцев писал: «Традиция образует определенное смысловое пространство, которое включает зоны как мало формализуемые, не отображаемые до конца на знаковом уровне, так и зоны совсем не формализуемые. Обладая, с одной стороны, указанным набором артикулируемых схем и образцов, традиция другой своей стороной (наиболее существенной) обращена к сложным комплексам народных представлений, которые существуют латентно». Эта латентная сфера не аморфна — наоборот, она служит источником самооформления культуры. Способностью взаимодействовать с нею фольклорное сознание несомненно родственно сознанию религиозному.
Установив эту родственность, дадим общее понятийное определение тому уровню культурного космоса, который, оставаясь невоплощенным, выполняет верховную, «законодательную» роль в его устроении. Назовем его уровнем канона. У Илариона ему будут соответствовать понятия благодати и истины, у Иоанна экзарха Болгарского — понятие чина. Другой регулятивный принцип мироустроения, другой уровенькультурного космоса, соответствующий закону (противопоставленному благодати) или «уставу» (отличенному от «чина»), — уровень, в отличие от канона, явленный — обозначим термином «парадигма».
Итак, исходя из логосного, софийного понимания слова и основываясь на тезисе о подобии слова и космоса, мы различили и обозначили три уровня культурного космоса: уровень канона, уровень парадигмы и уровень непосредственного бытия. После их выделения как внутри слова, так и внутри космоса остается еще один уровень собственно словесной реальности, понимаемой уже не в логосном, а в более узком сымысле: как ее текстовая актуализация. Этот четвертый уровень мы будем называть уровнем слова. И именно в таком ограниченном значении, уже не в качестве логосного подобия культурного космоса, а в качестве одного из его уровней, соположенного трем другим, слово будет являться предметом нашего дальнейшего рассмотрения. С учетом этого определения мы и постараемся проследить те исторические трансформации космоса русской культуры, которым сопутствует трансформация природы слова. Подчеркнем еще раз, что речь идет не об изменении его стилевых, лексических, синтаксических и тому подобных проявлений, которые составляют предмет истории литературного языка. Речь идет об изменении сущностных связей слова с другими фундаментальными уровнями культурного космоса, об изменении места, которое занимает слово в рамках того или иного типа культуры, и в этом именно смысле — об изменении его природы.
Опишем теперь те существенные для последующего изложения качества канона и парадигмы, которые являются более или менее общими как для фольклорного, так и для церковного сознания.
Как уже говорилось, главным качеством канона как особого принципа регуляции законов и устройства культурного космоса, яв ляется то, что он не эксплицирован, не предъявлен, внеположен всякому наличному бытию — но, нигде непосредственно не вопло щаясь, не поддаваясь ни позитивному описанию, ни прямому называнию, он проявляется во всем, организуя и упорядочивая активные проявления культурной жизни.
Канон обеспечивает единство первейших жизненных ориентиров и ценностей, единство в церковной вере, в суевериях, в житейском строе. Подчеркнем: единство, а не единообразие. Канон различает и социальные, и культурные роли, различает способы и пути служения — но он скрепляет это многообразие единым сюжетом бытия. Канон, таким образом, является скрепой единства миропорядка, в котором законный путь находится всем, от мала до велика, от праведника до грешника.
Из сказанного уже понятно, что канон не имеет автора. Можно сказать, что он нерукотворен, ибо все, через кого непосредственно реализуется канон (народный певец, священник, царь и т. п.), — все они лишь проводники канона, лишь посредники между ним и действительностью — но никогда не творцы его.
Способ, каким канон обучает человека жизни в законе, подобен способу, каким ребенок познает мир. Способ этот — включение, вхождение изнутри. Он противоположен обучению человека путем ориентации его на извне предъявленные образцы, моральные нормы и своды знаний. Здесь разница та же, как между освоением родного языка и изучением иностранного. Канон раскрывается человеку так же, как художественное произведение раскрывается читателю по мере того, как он входит в его внутренний мир и, вживаясь в него, постигает его законы. Эти законы не выписаны отдельно, не предваряют текст — они растворены во всем тексте и организуют правильное его восприятие. Не будучи предъявлен, канон тем не менее никогда не остается в сфере чистой потенции. Он постоянно актуализируется всем ходом жизни. И потому памятование канона всегда есть живое памятование. Память канонической культуры в принципе отличается от памяти культур, которые опираются на музейные, археологические, документальные свидетельства того, что уже мертво, что представляет собой самоценность, прямо не связанную с ценностями повседневной жизни. Память канонической культуры — живая, актуальная и творческая (ср. парадоксальное «память будущее жизни» у митрополита Илариона).
Парадигма, как и канон, связана с устрояющим законом миропорядка, но она осуществляет этот закон совершенно другим, можно сказать противоположным, способом. Первейшее отличие парадигмы от канона — то, что она воплощена, существует как наличность и данность, как предъявленный образец. Она может иметь текстуальное или изобразительное выражение. Примерами парадигмальных образований являются такие тексты, как нормативные поэтики или церковный устав. В Послании Епифания Премудрого к Кириллу Тверскому описана ориентация на парадигмальные образцы в иконописи, и там же она оценена как недостаточная. Посредственным иконописцам, смотрящим только на образцы, противопоставлен Феофан Грек, который разумными очами видит разумную доброту. В то время как его руки пишут изображение, умом он «дальная и разумная обгадываше; чювственныма бо очима разумныма разумную видяше доброту си»2. Руки и ум Феофана находятся в созидательном творческом движении, в действии, глаза же напряженно сосредоточены. Глаза устремлены к «разумной доброте», она предзадана иконописцу — но предзадана не в том мире, который постигается «внешними очами», способными видеть лишь образец. Существенно, что рукотворным образцам Епифаний противопоставляет не Божественные прообразы как таковые, но некий принцип, которым руководствуется Феофан Грек и который обозначен в этой работе как следование канону.
Если в каноне заложен принцип самоорганизации и самообучения, то парадигма организует и обучает, задает ориентиры, на которые следует равняться.
Если канон — начало актуализируемое и актуализирующее, то парадигма — актуализированное.
Если канон — это живая память, то парадигма скорее — напоминание, предъявление того, о чем следует помнить.
В Слове о законе и благодати заявлено весьма определенное иерархическое соотношение тех начал, которые соответствуют, как было показано, канону и парадигме: закон — «слуга благо дети и истине, истина же и благодеть слуга будущему веку, жизни нетленнеи»3. Подчеркнуто и одно существеннейшее различие этих начал: закон ограничен по сфере своего влияния, он «тесен» («гърздиться в законе человечьство») — благодать же распространяется на всех без ограничения, она не стеснительна, но, напротив того, свободна («человечьство <…> въ благодети пространно ходить»).
Каждый из описанных уровней, естественно, несводим к тем или иным реалиям культурного обихода. В одной и той же реалии может содержаться несколько уровней, подобно тому как в одном и том же фрагменте текста содержатся выявляемые лингвистикой морфологический, семантический, синтаксический и другие уровни. И тем не менее есть реалии, преимущественно представительствующие за тот или иной из различенных здесь уровней (так, скажем, нормативная поэтика или грамматика — это прежде всего парадигма).
Традиционное для науки понимание канона как правила, нормы и образца (то есть как той же парадигмы) сложилось потому, что предлагаемое здесь различие между ними (проходящее по линии эксплицированного — неэксплицированного) не трактовалось как имеющее принципиальный характер. Между тем мы надеемся показать, что различие это до чрезвычайности существенно для культуры: в зависимости от того, канон или парадигма оказываются на иерархически верховном месте в культурном космосе, кардинально меняется весь порядок его устроения.
Основываясь на предложенной системе различений, в русской истории и в русской словесности можно выделить четыре эпохи: эпоху канона, в которой слово взаимодействует с тремя названными здесь уровнями (это эпоха, условно говоря, «средневековая»); эпоху парадигмальной культуры, в которой взаимодействие с каноном редуцируется, практически отменяется, и слово оказывается сопряженным лишь с двумя уровнями: парадигмы и непосредственного бытия (парадигмальная культура начинает складываться в XVII веке и завершает свое развитие в начале XIX века); эпоху двухуровневую, когда слово и непосредственное бытие взаимодействуют только друг с другом (в своем классическом выражении она существует на протяжении всего XIX столетия), и эпоху одноуровневую, в которой каждый из названных здесь уровней начинает тяготеть к форме непосредственного бытия — это культурная эпоха, переход к которой, как кажется, происходит сейчас, хотя ее наступление назревало еще в начале ХХ века, но тогда было искусственно прервано.
Такова самая обобщенная картина. При дальнейшем подробном рассмотрении она безусловно окажется сложнее.
