Джастин Мёрфи. Базированный Делёз: реакционная левизна Жиля Делёза
Работу Джастина Мёрфи называли «причудливой» и «взрывной», а Себастьян Гомес назвал «Базированного Делёза» Мёрфи «самой важной философской книгой 2019 года». В новой книге Мёрфи в краткой и доступной форме рассказывает о печально известном запутавшемся французском философе Жиле Делёзе (1925-1995). Если ваша жизнь — отстой, потому что вы застряли в какой-то дрянной политической группе или тупой институциональной карьере, вы должны освободиться! Вы должны прочитать эту книгу!
Другие переводы можно прочитать здесь: https://vk.com/transstructuralism
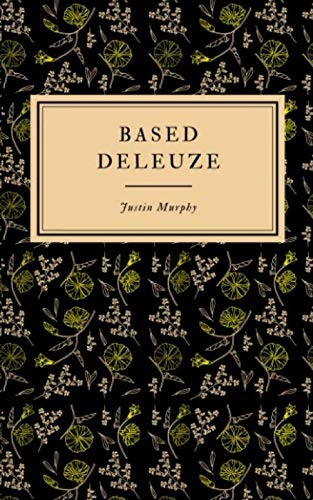
Предисловие
Я попытался написать небольшую, доступную книгу о французском философе Жиле Делёзе (1925-1995). Задумана и написана она была одним имманентным движением с 20 июля по 20 августа 2019 г.
В связи с неожиданным преимуществом быстрой интернет-публикации многие из моих самых язвительных критиков написали на мою книгу публичные рецензии еще прежде, чем я даже начал писать. Уж не знаю, откуда у них взялась прогностическая способность комментировать еще не написанный текст, но благодаря их щедрому публичному обмену мнениями у меня появилась возможность систематически упреждать и, надеюсь, снимать все основные критические замечания и возражения, которые эта книга могла бы в противном случае вызвать.
Моя книга не ставит своей целью дать всеобъемлющий и сбалансированный портрет мысли Делёза. Критики будут обвинять меня в том, что я избирательно подхожу к цитированию, игнорируя важнейшие контекстуальные факторы и большую часть научной литературы — ради того чтобы создать абсурдный и политически мотивированный образ Делёза. И не то чтобы они будут неправы! Эта книга — всего лишь один портрет богатого, сложного корпуса работ, созданный под определенным углом зрения. Безусловно, она мотивирована моими собственными интересами и желаниями. Безусловно, она раскрывает только один срез своего объекта — это, вероятно, единственный достойный способ писать о другом мыслителе. И это, безусловно, единственный вид «вторичной литературы» (текстов о чужом творчестве), которую любой человек решил бы читать для стимуляции и назидания. На протяжении большей части современной интеллектуальной истории этого, как правило, ожидали от любого сто́ящего комментария. Но сегодня существует «галёрка», откуда может раздаться возражение против такого подхода, что является следствием массовизации высшего образования.
Научные нормы в гуманитарных науках сегодня доведены до предела, поскольку их эволюция за последние несколько десятилетий была обусловлена, прежде всего, необходимостью отсеивать всё большее число абитуриентов. Такое давление вызывает всё большее недовольство. Любой академический комментарий должен сперва процитировать по меньшей мере несколько десятков недавних научных исследований, причем не потому, что он этим исследованиям чем-то обязан, а в качестве механизма «легитимации работы» — произвольно долгое и нежелательное задание, выполнение которого должно свидетельствовать о пригодности человека к научной системе. Поскольку всё больше человек получает высшее образование, постольку всё больше человек может попытаться построить академическую карьеру, а это означает конкурентную эскалацию требований к доказательной работе. Так, сегодня в ряде областей библиография должна состоять на 50% из женщин проч. Конечно, все эти тенденции преподносятся как существенные улучшения того или иного рода, но лежащая в их основе логика столь же расточительна и жестока, как древняя практика потлатча (сжигание рабов для демонстрации достоверности) или майнинга биткойнов (сжигание электричества для демонстрации достоверности). Академия — это пространство конкурентной игры, которая опирается на те же самые принципы (несмотря на то, что в ней существует кустарная индустрия анти-биткойн-морализма!). Главное отличие ее в том, что биткойн делает это прозрачно, отступая от устоявшихся финансовых институтов, в то время как академия делает это непрозрачно, дабы повысить свой моральный авторитет и получить ренту внутри устоявшихся институтов.
Массифицированная цивилизационная опухоль, которой сегодня является высшее образование, породила множество людей, которые тратят годы на подчинение произвольным дисциплинам, так и не получая вознаграждения в виде стабильно оплачиваемого профессионального членства. Нередко это умные, интересные люди, получившие свои ученые степени, терпеливо цитируя бесчисленное количество бесполезных статьей на темы, которые никогда не имели для них никакого смысла, используя абсурдные околонаучные субдисциплинарные языки, которые не интересуют и не радуют никого, кроме научрука. Такие люди — потенциальный рынок для оригинальных и интересных книг; именно они должны быть наиболее заинтересованы в чтении странной и идиосинкразической интерпретации популярного философа.
С таким количеством образованных людей, как у нас сегодня, и с затратами на публикацию, приближающимися к нулю, мы могли бы ожидать обескураживающее разнообразие изысканных и идиосинкразических книг! И предложение, и спрос должны быть выше, чем когда бы то ни было. Однако особенно бурного роста экономики дезертиров из академических кругов не наблюдается, хотя есть довольно много прихлебателей и низов — травма академической социализации без интеграции, похоже, чересчур велика, чтобы ее можно было вынести. Обиженные на потраченные впустую годы, теперь при виде интеллектуальной жизни, которая перестала платить свои взносы, они не испытывают ничего, кроме отвращения. Они цепляются за самые унылые и неискренние периферии Академии, которая не только безжалостно одурманила их, но уже даже и не претендует на то, чтобы предложить им что-то сейчас или в будущем. Вместо того чтобы это осознать, обновить свою модель мира, выйти из прогнившей игры и приступить к работе, наслаждаясь и производя причудливые плоды Внешнего, они специализируются на возражениях.
Критика — это, конечно, хорошо и прекрасно, но, когда люди возражают против существования книги, независимо от того, снимает ли это возражение «сливки», является ли оно «псевдоинтеллектуальным» или каким-либо еще — они лишь объявляют себя членами этой болезненной около-академической галёрки, этого неформального профсоюза обиженных тормозов, которые занимаются перестановкой палубных стульев на «Титанике». Теперь, когда с этой галёркой всё ясно, ее можно смело игнорировать.
Возможно, самой разумной критикой моего портрета Делёза было бы то, что ученые называют признанием недействительным — причудливый способ сказать, что всё это просто неправильно, не проходит «пробу на запах», никак не согласуется с очевидными фактами и вообще — на первый взгляд просто неправдоподобно. Как я рассказываю в главе «На проблемной земле», я первоначально отверг прокапиталистический портрет Делёза Ника Ланда на основании его недействительности. Делёз явно одобрил слишком много понятий, принципов и причин левого антикапитализма, чтобы у Ланда это выглядело правдоподобно. В этой главе я объясню, как и почему мое неприятие привело к определенной рекалибровке моих убеждений, так что здесь я повторять эту историю не стану. Достаточно сказать, что я понимаю, почему многие читатели будут столь же скептически, как я, относиться к тому Делёзу, с которым они встретятся на нижеследующих страницах.
Если мой портрет Делёза покажется на первый взгляд невозможным, то, вероятно, нам стоит поинтересоваться, кто или что создало тот облик Делёза, который ныне мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Даже самый беглый взгляд на академический консенсус в отношении Делёза заставит любого читателя быть гораздо менее уверенным в том, что он уже о Делёзе слышал. Просмотрите следующие шедевры науки, на которые можно наткнуться, занимаясь Делёзом:
• Un-Glunking Geography: Spatial Science After Dr. Seuss and Gilles Deleuze (Doel 2002)
• Deleuze and Guattari in the Nursery: Towards an Ethnographic, Multi-Sensory Mapping of Gendered Bodies and Becomings (Emma and Mellor 2013)
• Becoming Rhizomatic Parents: Deleuze, Guattari and Disabled Babies (Goodley 2007)
• ‘Ecosystem Service Commodities’ — a New Imperial Ecology? Implications for Animist Immanent Ecologies, With Deleuze and Guattari (Sullivan 2010)
• Immaculate Defecation: Gilles Deleuze and Félix Guattari in Organization Theory (Sørensen 2005)
• Virtually Sustainable: Deleuze and Desiring Differenciation in Second Life (Hickey-Moody and Wood 2008)
• Transgender Without Organs? Mobilizing a Geo-Affective Theory of Gender Modification (Crawford 2008)
• Deleuze on Viagra (Or, What Can a ‘Viagra-Body’ Do?) (Potts 2004)
Внушают ли вам доверие все эти названия? Считаете ли вы, что институционализированная культура, эти названия породившая, может предоставить публике точный и полезный образ сложного французского философа? И всё же… Большая часть того, что, как вы думаете, вы о Делёзе знаете, пришло к вам, через осмос, от тех же гениев, которые придумали эти названия.
Делёз был приверженцем левых взглядов, но, как и многие великие философы, он регулярно преступал границы своей предполагаемой идеологической идентичности. Он нередко продвигал витализм, несмотря на его фашистские коннотации. Вслед за Фридрихом Ницше он отверг теорию «чистого листа» — сегодня фактически обязательную в академических гуманитарных науках, — согласно которой все психологические и поведенческие различия между людьми обусловлены различиями в условиях окружающей среды; он, похоже, считает, что в возникновении объективных и законных социальных иерархий играют роль наследуемые генетические задатки. Существует целый ряд признаков того, что он верит в «расовый реализм», поскольку он подчеркивает значение расового бреда при шизофрении и даже призывает своих читателей очистить свою расу. Гваттари нередко проводил психотерапевтические эксперименты с душевнобольными, но, по словам Юджина Уолтерса, Делёз «ненавидел сумасшедших» (Wolters 2013). В отличие от релятивизма, который господствует в современной философии, Делёз вслед за католическим священником XIII в. Дунсом Скотом утверждал однозначность бытия. По Делёзу, всё состоит из одной божественной субстанции. Наконец, коллективное освобождение — для Делёза это реальная перспектива, но, вопреки зеркально-атеистическому течению радикально-левого движения XX в., его финальное ви́дение социальной революции «не от мира сего» (Hallward 2006).
Всякий раз, когда я говорю людям, что Делёз был удивительно реакционным для леворадикального философа, никто, похоже, не понимает, что я имею в виду. И вот теперь есть по крайней мере одна книга, в которой они смогут об этом прочитать.[1]
1. Термины
Делёз был постструктуралистом, но он не был, как полагают многие, постмодернистом. «Постмодернизм» обычно используют в качестве всеобъемлющего уничижительного термина для обозначения той общей оторванности от корней, фрагментированности и хаотичности, что характерны для современной западной культуры. «Постструктурализм» зачастую ассоциируется с постмодернизмом, потому что эти слова звучат схожим образом, а их самые известные представители — французы, и, похоже, оба они начали набирать популярность примерно с 1970-х гг. В результате большинство людей, которые слышали о постструктурализме, считают, что это кучка высокородных французских шарлатанов, продающих публике абсурдные концепции. В качестве примеров называют Мишеля Фуко, Жака Деррида и… Жиля Делёза. Вот и выходит, что в той степени, в какой Делёз имеет успех среди нормальных людей, этот успех напоминает о постмодернизме: оторванность от корней, фрагментированность и хаотичность.
Такая ошибка особенно досадна, поскольку возможных выходов из постмодернистского тупика Делёз предлагает больше, чем любой другой философ со времен Второй мировой войны.
Постструктурализм относится к кластеру довольно разнообразных интеллектуальных проектов. Всё, что их объединяет, это общий отход от господствующего стиля предшествующего периода — структурализма, примером которого были Клод Леви-Стросс в антропологии, Фердинанд де Соссюр в лингвистике и Луи Альтюссер в философии. Распространяться о структурализме нет никакой нужды; достаточно сказать, что дух структурализма был гордым, чопорным и чрезмерно довольным своей собственной строгостью — или, скорее, эстетикой строгости. Альтюссер, например, искренне верил, что Карл Маркс открыл Науку истории и что это было конгениально открытиям Галилея (Althusser 1990). Единственный способ избежать ловушек буржуазной идеологии, по мнению Альтюссера, это следовать объемным, научным интерпретационным диктатам самого Альтюссера.[2] Было неизбежно, что некоторые дерзкие выскочки с поэтическим талантом в конце концов начнут свою собственную карьеру, развенчивая байки этих душных болтунов (я уже сказал, что Альтюссер убил свою жену?). По правде говоря, всё это не имеет никакого значения, а что имеет, так это то, что ярлык «постструктуралист» почти ничего не говорит нам о том, что человек думает. Это слово может звучать как постмодернизм, но на самом деле перед нами просто неопределенный стилистический французский тренд последней трети XX в.
Сегодня постструктуралисты вроде Фуко и Делёза широко рассматриваются как «культурные марксисты» — благодаря популярному тезису канадского психолога Джордана Питерсона, — т. е. их философия является лишь средством классовой войны. Однако во времена расцвета постструктурализма такие фигуры, как Фуко и Делёз, скорее считались предателями марксизма. Напомним, что Жан-Поль Сартр — самая возвышенная интеллектуальная фигура Франции XX в. — окончательно отрекся от Советского Союза лишь в 1956 г. А Делёз написал свою первую книгу (о Дэвиде Юме) в 1953 г. Постструктурализм был не столько адаптивной мутацией экономического марксизма в культурную плоскость, сколько вызывающим утверждением автономии и творчества вдали от марксизма.
Предлагать исследование «реакционных» компонентов в работах «левого постструктуралиста» — если уж мы рассматриваем их в этом свете — не столь и скандально, как предполагают мои критики.
Как я попытаюсь показать, работы Жиля Делёза содержат целый спектр противоядий от хаотического зла постмодернизма. Остается распространенным впечатление, будто Делёз был хаотичным мыслителем, продвигающим абсурдные и нелепые концепции, дабы разрушить жесткие и традиционные нормы. На самом деле, Делёз, как мне кажется, хотел ниспровергнуть именно постмодернистские тренды, скажем, склонность отвлекаться на произвольную и мимолетную моду или быть захваченным маркетологами и алгоритмами. Он хотел прорваться сквозь то, что он называл «ложными проблемами», чтобы показать, что в каждом преходящем моменте есть только одно, чистое, непрерывное прошлое, действующее через нас.
Два значения слова «реакция»
Обсуждать идеологическую валентность великих мыслителей трудно, ведь они не так уж и часто пользовались костылями идеологии. Эта трудность особенно актуальна сегодня, когда идеологическими ярлыками пользуются крайне произвольно и нередко со скрытыми мотивами. Поэтому с самого начала я должен уточнить, что я имею в виду под словом «реакционер», вынесенным в подзаголовок моей книги.
В некотором смысле Делёз был явным антиреакционером. Он был антиреакционным в том смысле, что он был антиреактивным, в духе Баруха Спинозы и Ницше. Быть реакционером, в этом уничижительном смысле, означает всегда реагировать на активные, превосходящие силы, вместо того чтобы самому стать активной силой; быть захваченным аффектами печали, быть обиженным, ресентиментным, думать и действовать, используя эти аффекты в качестве движущих сил. Такое понимание реакционизма с точки зрения здравого смысла частично совпадает с современным политико-идеологическим смыслом этого слова. Данные показывают, что консерваторы более остро реагируют, например, на отвратительные стимулы (Inbar, Pizarro, and Bloom 2009). Эксперименты показали, что даже простое присутствие неприятных запахов может сделать людей пусть и в небольшой степени, но ощутимо более консервативными (Schnall et al. 2008). Консерваторы чаще видят угрозы и реагируют на них, требуя «закона и порядка». Эдмунд Бёрк с ужасом наблюдал за Французской революцией, написав о своей реакции. Отныне мы будем называть этот аспект реакционной или консервативной политики реактивизмом. Реактивизм я предпочитаю реакционизму, потому что это послужит нам напоминанием о том, что левый прогрессивный активизм гораздо ближе к такому смыслу «реакционности», чем мы привыкли думать. Реакционная политика в этом смысле, реактивизм, может быть способом провалить левую политику не меньше, чем правую.
Всё смешалось, так как современное общество называет реакционным всё, что нарушает левые или прогрессивные нормы. Ницше, например, многие считают реакционером, хотя одним из стержней философии всей его жизни является презрение к каждой и всякой реакционной тенденции. Начиная с XX в., а в особенности после Второй мировой войны, любой достаточно неприятный и волевой человек, стремящийся избежать реактивизма — желающий вести подлинное, здоровое и автономное существование, — в конечном итоге будет заклеймен как реакционер. Даже если его политические убеждения идеологически неоднозначны или амбивалентны. Таким образом, такие разные интеллектуалы, как Эрнст Юнгер, итальянские футуристы, Мартин Хайдеггер, Сальвадор Дали, Джек Керуак и даже Хантер С. Томпсон, в разной степени заслуживают этого знака отличия.[3] Сильные и бескомпромиссно активные движущие силы кодируются как «реакционные», если человек не связан с более крупной коллективной освободительной борьбой какой-либо официально маргинализированной группы. Исключительно в этом смысле мы найдем «реакционный» компонент в философии Делёза.
В этом последнем смысле «реакция» есть рекуррентная, скрытая тенденция, которая может возникнуть как у левых, так и у правых. Наиболее вероятно, что она возникнет у правых, но в периоды, когда «левые» находятся в особенном упадке, ответственность за трансгрессию «левых» иногда ложится на тех левых, которые во всем остальном являются правыми. Есть свидетельства, что именно в этом контексте Делёз и писал. Первая явно политическая книга Делёза, написанная в соавторстве с Феликсом Гваттари, была опубликована в 1972 г. Всего пару лет спустя, под задокументированным делёзо-гваттарианским влиянием, Жан-Франсуа Лиотар опубликовал то, что он позже назовет своей «злой книгой» (Lyotard 1990). «Либидинальная экономика», пожалуй, более благоприятна для капитализма, нежели делёзо-гваттарианский акселерационизм. Вдобавок ко всему, Лиотар, похоже, обвиняет рабочих в их собственном угнетении. Потребуется целая книга, чтобы полностью исследовать все тонкие течения реакционной левизны в послевоенной европейской философии. Достаточно сказать, что реакционная левизна Жиля Делёза не была непреднамеренной или оторванной от окружающего случайностью: скорее, оно понятно в своем контексте — и Лиотар в некоторой степени его, можно сказать, повторил.
2. На проблемной земле
Когда я впервые услышал о коммерческом прочтении Делёза Ником Ландом, я подумал, что он, наверное, шутит. Согласно Ланду, загадочная делёзовская концепция «детерриториализации» — популярное cri de cœur среди сердитых студенческих поэтов-революционеров — по сути сводится к предпринимательству (Land 2013; Murphy 2017a). Согласно Ланду, Делёз считает рынок двигателем того, что левые назвали бы эмансипацией или освобождением (в какой степени эмансипация и освобождение существуют на горизонте Делёза — вопрос, к которому мы вернемся в последней главе). Как вы увидите, я по-прежнему считаю неправдоподобным понимать Делёза как прямого поклонника капитализма. Делёз сделал слишком много замечаний обратного характера, и многие из них говорят о том, что рынки являются основным источником угнетения. Тем не менее, смелая и немодная интерпретация Делёза, предложенная Ландом, заронила семя в мое собственное понимание основного проекта Делёза. В конце концов, я был вынужден признать, что его гипотеза может покончить с целым рядом неразрешимых загадок в мысли Делёза. Существуют определенные аномалии, которые имеют смысл только в том случае, если признать, что Делёз является носителем некой эзотерической, реакционной тенденции. Рассмотрим, к примеру, следующий анекдот в совместной биографии Делёза и Гваттари, написанной Франсуа Доссом (Dosse 2011).
Один из учеников Делёза, Бернар Каш, открыл бизнес, основанный на делезианском прочтении Лейбница. Самой интересной особенностью этого бизнеса, названного «Objectile Distribution», было то, что он вырос из предложения Делёза:
Бернар Каш превратил эти принципы [Лейбница] в материальные силы, придумав объекты, которые создаются на основе алеаторных моделей, что позволяет делать их модульными, нестандартными, но в то же время произведенными серийно. Он создал предприятие [в англ. пер. business], название которого, «Диффузия объектилей», подсказал ему Делёз: «Однажды он сказал мне, что объекты, которые я определял в лейбницевском духе через параметрические функции, это на самом деле объектили». На этом своем предприятии он преобразует философские принципы путем самого настоящего сингулярного производства (Dosse 2011, 452).*
Рассказ Досса оставляет бизнес-модель не менее туманной, чем название, так что неясно, как этот бизнес пытался заработать деньги. Тем не менее, анекдот озадачил меня, ведь моя воображаемая модель Делёза представляла его как революционного интеллектуала, который никогда не стал бы интересоваться мирскими делами. Я полагал, что к схемам денежных заработков он не испытывал бы ничего, кроме презрения. Поэтому я был удивлен, когда на этот анекдот наткнулся. Я попытался забыть о нем, но не смог.
Я стал понимать, что если допустить существование эзотерической «реакционной» нити в творчестве Делёза, то вся сеть его идей внезапно наполнится смыслом. Даже его хорошо известные концепции окажутся более интуитивными и имманентно продуктивными. С другой стороны, хотя капиталистический Делёз Ника Ланда был настолько необходимой провокацией, он всё еще противоречит почти всему остальному из того, что мы о Делёзе и его окружении знаем. Итак, цель моей книги — объяснить странные реакционные тенденции у Делёза таким образом, чтобы при этом соблюсти справедливость в отношении его объемных и открыто левых утверждений. Если его систематические отклонения от его якобы левой верности не превращают его в полноценного капиталиста, то что же они делают?
3. Децентрализованный прономизм
С незапамятных времен вокруг основополагающего раскола между антиномизмом и прономизмом велись баталии, богословские и политические. Их общим корнем является номос, древнегреческий термин, который приблизительно означает закон или, в более общем смысле, созданные человеком социальные символические структуры. Левизна коррелирует с антиномизмом. Для левых устоявшиеся символические структуры произвольны, они уходят корнями в прошлую несправедливость, а потому заслуживают порицания, праведного насилия и переписывания организованными массами. Прономизм консервативен (Moldbug 2007). Для консерватора право собственности и контракты должны соблюдаться в обязательном порядке. Для антиномиста же навязчивая верность прономиста прошлым соглашениям реакционна.
Делёз был левым в той мере, в какой он хотел бы видеть власть над собственностью и контрактами более равномерно распределенной и децентрализованной. Но это — широко распространенное предпочтение, не представляющее особого интереса. Любопытней то, сколь мало наш революционный философ поддерживал модную в то время антиномичную политику: от воинственного протеста, свержения традиционных семейных структур до антикапиталистических и антиимпериалистических похищений, взрывов и захватов самолетов, распространенных в 1970-х гг., и проч. Известно, что он подписал ряд петиций, однако в такой радикальной и мобилизованной среде, как у него, подписание парочки петиций указывает на любопытную отстраненность. На мой взгляд, политическое поведение Делёза похоже на то, как незаинтересованный человек зачастую позволяет себе некий минимум, просто чтобы не оскорбить своих пьяных в стельку сверстников. Не говоря уже о том, что петиции — это довольно прономичное политическое поведение: добиваться изменения номоса, соблюдая при этом его же протоколы.
И пусть Делёз хотел, чтобы власть была распределена равномерно, шокирующе непризнанным фактом является то, что Делёз был радикальным прономистом. Он был одержим социальной технологией контрактов, в особенности же их творческим и освободительным потенциалом. Рассмотрим следующее из его интервью с гораздо более антиномичным теоретиком и боевиком Антонио Негри:
Изначально я больше интересовался правом, чем политикой. Даже у Мазоха и Сада мне нравились: предельно извращенная концепция контрактов у Мазоха, институтов — у Сада, как они функционируют в сексуальности. В наши дни я считаю фундаментальной работу Франсуа Эвальда по восстановлению философии права. Меня интересует не закон или законы (первое — пустое, второе — некритическое понятие) и даже не право или права, а юриспруденция. Закон создает, в конечном счете, именно юриспруденция; не стоит оставлять это на усмотрение судей. Писатели должны читать юридические отчеты, а не Гражданский кодекс. Многие уже подумывают о создании правовой системы для современной биологии; однако всё, что происходит в современной биологии: новые ситуации, которые она создает, новые события, которые она делает возможными, — всё это вопросы для юриспруденции. Нам нужен не этический комитет из якобы высококвалифицированных мудрецов, а пользовательские группы. Именно здесь мы переходим от права к политике (Negri and Deleuze 1990).
Как отмечает Молдбаг, антиномизм является важнейшим адаптивным заболеванием для заразительного и очень успешного мемплекса секулярного прогрессивизма (технически последняя атеистическая мутация протестантизма, примером которой является замена Ричардом Докинзом «Бога как иллюзии» мистическим zeitgeist либерального прогресса). Большинство сочтет весьма привлекательным снятие всех жестких ограничений на передачу ресурсов, хотя такая непринципиальность также обречена разрушать любую систему. Если закон не священен, ресурсы можно передавать от одного любого человека к другому, в любое время, по любому принципу, который моден или выгоден власть имущим.
Получается, ни один умный, честный левак не может сознательно поддерживать чистый антиномизм, поскольку антиномизм в конечном итоге отражает позицию а-ля Фрасимах: «мочь не значит иметь право». Вместо этого современные левые, начиная с Маркса, отчасти сознательно выбирают инструментально оправданную нечестность: публично морализируют о зле безудержного господства, говорят всем, что «мочь не значит иметь право», но сплачивают массы, опираясь как раз на утверждение, что их могущество станет правом. Что также объясняет, почему большинство марксистских революций в конце концов превращаются в фашизм, ведь их практическая логика опирается на противоречивое, мобилизующее жульничество. Антиномичная до прихода к власти, прономичная — после. В конце концов понимаешь, что самым совершенным антиномизмом является капитализм. Смысл любого слова может измениться в одночасье, при достаточной предпринимательской креативности. Всё прочное испаряется, как говорил Маркс.
Из этого следует, что последовательная, честная левизна требует, по меньшей мере, некоторого компонента реакционного прономизма, но до «революции». Именно так мы сможем понять странный на первый взгляд интерес Делёза к закону и контрактам. Чтобы объяснить, что я имею в виду, придется совершить детур через сексуальную патологию. Ведь именно в связи с вопросами сексуальной патологии Делёз впервые заговорил о юриспруденции.
В книге «Холодность и жестокость» (1989), посвященной концепции «садо-мазохизма», Делёз окончательно отвергает идею о том, что садизм и мазохизм — два полюса одного измерения. Через философское прочтение маркиза де Сада и Леопольда фон Захер-Мазоха Делёз приходит к тому, что мазохист никогда не будет полностью удовлетворен садистом в качестве своего мучителя, а садист не сможет максимизировать свое удовольствие из добровольного мазохиста. В то время как мазохизм — это закон и контракт, садист ненавидит контракты (с. 76).
Короче говоря, садизм — антиномичен, а мазохизм — прономичен. Предпочтительным политическим средством для антиномичного прогрессиста является норма или институт, а для прономиста — контракт. Вслед за французским революционером Сен-Жюстом маркиз де Сад открыто выступал за радикальный институционализм, который покончил бы со всеми законами. Делёз прекрасно объясняет политические координаты институтов и контрактов в следующем отрывке, который заслуживает того, чтобы его процитировать целиком.
Юридическое различие между контрактом и институтом хорошо известно: контракт предполагает de jure свободное согласие договаривающихся сторон и определяет между ними систему взаимных прав и обязанностей; он не может обращаться к третьей стороне и действует в течение ограниченного периода. Институты, напротив, определяют долгосрочное положение дел, которое является недобровольным и неотъемлемым; они устанавливают власть или авторитет, которые действуют в отношении третьей стороны. Но еще более существенным является различие между контрактом и институтом в отношении того, что известно под именем закона: контракт действительно порождает закон, даже если этот закон выходит за рамки и противоречит условиям, которые сделали его возможным; институт имеет совершенно иной порядок, поскольку он стремится сделать законы ненужными, заменить систему прав и обязанностей динамической моделью действия, авторитета и власти. Сен-Жюст, соответственно, требовал больше институтов и меньше законов, провозгласив, что республика не может быть республикой, покуда законы имеют верховенство над институтами… Короче говоря, специфический импульс, лежащий в основе контракта, направлен на создание закона, даже если в конечном итоге закон должен взять верх и навязать свою власть самому контракту; тогда как соответствующий импульс, срабатывающий в случае института, направлен на вырождение всяких законов и на установление верховной власти, которая над ними себя ставит (с. 77).
Хотя «Холодность и жестокость» сохраняет нейтральный аналитический тон, подобающий профессиональному философу, легко заметить, что мазохизм в большей степени соответствует мировоззрению и характеру самого Делёза. Садизм направлен «вверх» к «трансцендентному высшему принципу» (с. 88), иронически выявляя жестокость, присущую просвещенческой рациональности. Мазохизм же указывает «вниз», на имманентную диверсию жестокой рациональности, которая с юмором превращает угнетение в удовольствие, применяя его к себе с «чрезмерным усердием» (с. 88). Садизм более сжат и тороплив, тогда как мазохизм затягивает, полагаясь на ожидание (Reynolds 2006, 97-98). Вы помните, как в работах Делёза и Гваттари медлительность ставится в привилегированное положение как способ быстрого движения (Deleuze and Guattari 1987, 499). И, как отмечает Рейнольдс, Делёз особенно сильно восхищался такими писателями, как Беккет и Пруст, которые известны «мазохистским» чувством времени. Рейнольдс даже утверждает, что в целом аналитическая философия склонна к садизму, а континентальная — к мазохизму. Короче, всё говорит о том, что, если мы хотим вывести делёзовскую политику Закона, нам следует обратиться к Мазоху contra Сад.
Когда Делёз говорит Негри, что его интересуют «пользовательские группы», создающие свою собственную юриспруденцию, он явно намекает на свою близость Мазоху, а не Саду. Он не просит, чтобы мы выпустили на свободу неограниченный авторитет и власть через неформальные институты: «Нам не нужен этический комитет, состоящий из якобы высококвалифицированных мудрецов». Скорее, он предлагает автономным группам начать вырабатывать свой собственный Закон, с определенными параметрами, «свободным согласием», без навязывания третьим лицам и проч.
И в мазохизме мы обнаруживаем, что отдельные люди и малочисленные группы могут пойти на, казалось бы, реакционные и угнетающие технологии — закон, контракты, наказания и проч. — как путь к освобождающему революционному потенциалу. Мазохист посредством политической изобретательности стремится создать новое, устойчивое и коллективно расширяющее возможности сочетание холодной маскулинной рациональности с теплым материнским состраданием. «Троица мазохистской мечты резюмируется в словах: холодно-материнско-суровый, ледяно-сентиментально-жестокий» (Deleuze and Sacher-Masoch 1989, 51). Мазохизм не подавляет и не огрубляет чувства, а скорее является отречением от повседневной чувственности в пользу высшей и более долговечной.
Под холодом остается гиперчувствительная сентиментальность, погребенная подо льдом и защищенная мехами; эта сентиментальность в свою очередь излучается через лед как порождающий принцип нового порядка, специфического гнева и специфической жестокости. Холод является одновременно защитной средой и посредником, коконом и транспортным средством: он защищает гиперчувствительную сентиментальность в форме внутренней жизни, выражая ее в виде внешнего порядка, в виде гнева и жестокости (с. 52).
Такая структура мышления и поведения нам хорошо знакома. Подобно тому, как мазохизм порождает удовольствие через практики страдания, христианство углубляет жизнь, отрекаясь от вещей мира сего. Тенденция мазохизма — подражать Христу. Стать, как писал Мазох в письме к своему брату, «Человеком на кресте, который не знает ни половой любви, ни собственности, ни отечества, ни дел, ни работы…. (цит. по: CC 100). В таком делезинском, христианском духе я впервые и предложил свое ви́дение неофеодального технокоммунизма (Murphy 2018c). Неофеодальный технокоммунизм достигает коллективной свободы через добровольный и ограниченный фашизм в отношении себя самого (Murphy 2018b). Это мирная, устойчивая модель коммунизма, основанная на исторически беспрецедентных технологиях производства и поддержания коллективных обязательств. А именно, «смарт-контракты» (автоматизированные и необратимые контракты, записанные с помощью кода на блокчейне) и всё шире распространяющееся оборудование для пассивного мониторинга (т.н. «Интернет вещей»). В этом отношении прозрения Делёза о мазохизме будут особенно полезны, если я прав, что современные леваки страдают от короткого замыкания гипер-сострадания (Murphy 2017b). Все леваки сегодня материнские, сентиментальные — не допускается никакой аналитической холодности или ледяной честности, несмотря на то что самый суровый ледник гинократической рабской морали в форме «возвращения вытесненного» всё-таки возникает.
Делёз помогает нам увидеть необходимое: творческое прономичное утверждение, исправление имен не «против левых», а от левых и внутри левых.[4] Применение рациональности достаточно ледяное, чтобы породить новые, автономные, политические порядки, незаметные и непроницаемые для представителей уже устоявшихся институтов. Божественная латентность, которая выравнивает распределение тепла и ресурсов через аскетический отказ от тепла поверхностного, от фальшивого равенства, от «языческой чувственности» и «садистской чувственности». Действительно, сейчас этот вопрос приобрел удивительную конкретность в виде блокчейна. Будучи чистой контрактной имманентностью, криптовалюты, работающие на аппаратных криптокошельках, предвещают новые реакционно-левые пути к автономному коммунизму. Обладая такой же парадоксальной структурой, как мазохизм и христианство, криптовалюта предвещает выход из капитализма, но только для тех, кто добровольно ускоряет его капиталистическую логику. Делёз был бы в восторге.
4. Нести свой крест
Делёз любил говорить, что никогда не следует возражать. В книге «Переговоры» (Deleuze 1995, 103), рассуждая о недоброжелателях и ненавистниках, он говорит:
Возражения, раздающиеся в ваш адрес, и даже вопросы, которые перед вами ставят, всегда доносятся с берега, и это словно буйки, которые вам бросили, но не для того, чтобы помочь, а, скорее, просто для того, чтобы досадить вам, чтобы помешать продвинуться вперед: возражения всегда исходят от посредственностей и лентяев…*
В своем совместном интервью-эссе с Клэр Парнет (2002) на первой же странице он отвергает практику «рефлексии». Он добавляет:
Возражения — это еще хуже. Каждый раз, когда кто-то мне возражает, я хочу сказать: «Ладно, ладно, только давайте уже перейдем к чему-нибудь другому». Возражения никогда ничему не способствовали.
Философ, который отказывается возражать, вряд ли может быть левым активистом, способным на протест. Для Делёза вообще не существует вопроса о протесте против несправедливости. Он может размышлять и формулировать свои мысли о различных ситуациях социальной несправедливости, но в своем понимании несправедливости и страдания Делёз — решительный стоик и христианин. Современные леваки назвали бы этику Делёза «виктимблеймингом», однако я предлагаю рассматривать ее как пост-активистский портал к нерепрессивной теории коллективного освобождения.
По Делёзу, особенно Делёзу «Логики смысла», несправедливость и несчастья, от которых страдает человек, возникают прежде него самого. «Моя рана существовала прежде меня: Я был рожден, чтобы ее воплотить» (Hallward 2006, 43).
Наши страдания, в том числе и материальная нужда, причиняемые более могущественными людьми, — это не актуальное, а виртуальное. Таково важнейшее различие, проводимое во всех работах Делёза, и мы к нему вернемся в одной из последующих глав («Реальное, развитое и традиционное»). Пока же достаточно сказать следующее. Очевидно, что реальные факты — это относительно небольшой компонент более крупного психологического и эмоционального ансамбля, составляющего любую «материальную нужду» (например, тот факт, что у кого-то нет денег на банковском счету, есть лишь небольшая часть гораздо более крупного и зачастую болезненного жизненного опыта по имени «бедность»). Мы знаем это в силу того, что существует вариативность в отношениях между фактами и психологическими или эмоциональными ансамблями — например, существование людей бедных и радостных и людей богатых и печальных. Люди с параличом нижних конечностей, ставшие инвалидами в результате аварий, в среднем испытывают столько же счастья, сколько и победители лотереи, а победители лотереи получают меньше счастья от повседневных событий (Brickman, Coates, and Janoff-Bulman 1978; Murphy 2018a).
Страдания не являются фактическим следствием материальных причин, которые можно и должно исправлять с помощью какой-то организованной операции. Согласно Делёзу, страдание — это событие, и его переживание — это то, что наделяет жизнь человека назначением (Hallward 2006, 43). События — это происшествия, которые являются аномальными или удивительными по отношению к прежде существовавшему, нормальному, причинному порядку. Жизнь становится жизнью только в той степени, в какой человек верен тем событиям, которые в ней происходят. События, несводимые к каузальным предикторам и структурным факторам, — вот то единственное, что делает вас человеком. И всё же они безличны и случайны, а значит, никогда не приведут вас к нарциссическому спиритуализму, если вы верите, что должны создать свою собственную ценность sui generis. Событие, которое является моей раной, не детерминирует мое будущее, это имманентное виртуальное явление, которое делает возможным мое будущее; моя задача — лишь прожить его. Моя жизнь обретает собственную последовательность лишь в той степени, в какой я контр-актуализирую свою рану. То, что Делёз называет контр-актуализацией или виртуализацией, означает схватывание материи как события, утверждение события как произошедшего и продолжение жизни таким образом, чтобы можно было это событие любить: amor fati. Таким образом, человек становится тем, кто он есть, вместо того чтобы возмущенно пытаться всегда быть тем, кем он не является[5].
5. Вечное возвращение
Концепция вечного возвращения у Ницше, включая ее делёзовское прочтение — это еще одна концепция с неясной идеологической валентностью. Вечное возвращение — печально известная сложная идея в мысли Ницше, которой было предложено огромное количество интерпретаций. Со своей стороны, я рассматриваю вечное возвращение как этический прием. Суть в том, что человек должен быть способен настолько абсолютно утверждать всё, что когда-либо происходило в его жизни, что его радует мысль о том, что всё повторяется бесконечно. Я не буду здесь пытаться разбирать альтернативные интерпретации.
Делёз анализирует вечное повторение как «бросок игральных костей». В броске костей есть два существенных момента или стадии (Deleuze 2006, 25-26). Первый — это собственно бросок, а второй — когда игральная кость падает. Чтобы бросить кости, нужно утверждать случайность, но, когда кости замирают, нужно утверждать необходимость. Будущее разворачивается как серия бросков игральных костей. Утверждение вечного возвращения означает утверждение того, что жизнь есть лишь серия бросков костей — вечное различие как константа, бытие становления.
Наивный способ прочесть Делёза здесь — это сказать, что нужно просто довольствоваться всем, что происходит. Всё это случайно и бесполезно, но утверждать это в любом случае — хорошее упражнение воли. Принимайте безрассудно наркотики, спите, не принимайте ничего слишком близко к сердцу, просто продолжайте бросать кости, утверждая всё, что происходит.
На самом деле, вечное возвращение — это средство для обоснования обязательств и осмысленной, последовательной, интегрированной жизни, когда Бог мертв и нет надежных внешних опор. Утверждение вечного возвращения, правильно понятое, порождает жизнь в строгости и дисциплине. Что бы ни выпало мне сегодня, я должен утверждать это не только сегодня, но и завтра, и послезавтра — я должен утверждать это вечно. Завтра брошенная мною игральная кость даст совершенно иные результаты, и я должен утверждать эти результаты в дополнение к сегодняшним, а не вместо них. Утверждение жизни как последовательности бросков игральных костей неявно требует когнитивной деятельности по интеграции каждого броска.
Строгий или интегральный учет своей жизни не так душен, как кажется, поскольку такая интеграция требует наиболее глубокого вида экзистенциального творчества. Действительно, приведение результатов завтрашнего дня в соответствие с результатами дня сегодняшнего — такова суть свободной жизни. Пересмотр повествования своей жизни, через концептуальные поправки прошлого, а также через дополнительные представления и построения в будущем, сохраняя при этом верность непрерывной нити своей конституции и убеждений… Это значит написать самый эпический роман, написать самое эпическое полотно и выступить на самой эпической сцене, и всё это одновременно. И всё же такое предприятие вращается вокруг подчинения необходимости того, что есть на самом деле. Поскольку различие — единственная константа жизни, постольку последовательность или целостность — по иронии судьбы — единственная переменная, единственная возможность для свободы и творчества.
Как сделать свою жизнь целостной? Только на плоскости имманентности, которую ты строишь сам, говорят нам Делёз и Гваттари. («Ты» относится скорее к машинной этости, чем к обыденному эго-субъекту, но ничто не мешает нам использовать для наших целей то же условное обозначение). Жизнь — это творческий проект, который может быть индексирован только к самому себе. Привязывая себя к себе через измерение времени, человек вынужден изобретать — вынужден быть свободным. Имманентность и целостность — близкие родственники.
Для ясности, подчинение тому, что есть, не означает смирения с любым институциональным статус-кво. Обыденные институциональные нарративы не являются «тем, что есть». Господствующие нарративы, можно сказать, по определению являются полуправдой, поскольку являются результатом большого, диффузного, меметического процесса отбора. Когда я говорю о подчинении реальности, я не имею в виду подчинение тому, что реальностью считают другие. Я имею в виду подчинение данным реальности — данным своей жизни — включая все данные о повсеместном распространении лицемерия и обмана в человеческих делах.
Поэтому социальные и политические следствия из Вечного возвращения прямо противоположны тем, которые рисует нам социо-либеральный нигилист. Влюбились в свою одноклассницу — женитесь! Если женились, но что-то пошло не так — создайте новый нарратив, новые понятия, новые практики — до тех пор, пока всё не станет прекрасно. Если ваш супруг оказался не тем человеком, за которого вы его принимали, когда выходили за него замуж, что ж, это бросок костей, и вы должны найти способ это утвердить. Вместо того, чтобы считать себя обманутым или обиженным (обычная отговорка обиженных или ленивых людей), ваше обязательство продолжать утверждать необходимость является одной из самых мощных движущих сил для творчества в самых больших масштабах: творчески пересмотрите нарратив своей жизни так, чтобы ваш брак перестал быть ошибочным или вы перестали быть обиженным. Возможно, это означает создание нового понятия себя, или нового понятия своего супруга, или новых поведенческих или коммуникативных практик и проч.
Как учит Делёз в книге «Различие и повторение» (Deleuze 1968), судьба человека разыгрывается на многих уровнях, которые он не может контролировать, но может, по крайней мере, выбирать уровни. Свобода — это не контроль или власть над тем, что происходит, это наша способность выбирать то, как это с нами происходит:
Каким бы значительным ни были несоответствие или возможная противоположность следующих друг за другом настоящих, каждое из них разыгрывает на разных уровнях «одну и ту же жизнь». Это то, что называют судьбой. Судьба никогда не состоит в отношениях детерминизма, в последовательности между настоящими, которые следуют друг за другом согласно порядку представленного времени. Судьба включает в промежутки между следующими друг за другом настоящими нелокализуемые связи действия на расстоянии, системы реприз, резонансов и откликов, объективные случайности, сигналы и знаки, роли, которые трансцендируют пространственные положения и временны́е последовательности. О настоящих, которые следуют друг за другом и выражают судьбу, можно сказать, что они всегда разыгрывают одно и то же, одну и ту же историю, за исключением разницы уровней: тут более или менее расслаблено, там более или менее сжато. Вот почему судьба так плохо согласуется с детерминизмом и так хорошо — со свободой: свобода — это выбор уровня (с. 83).*
Как бы вы ни страдали, творчество — это делать всё необходимое в рамках Необходимости, делать так, чтобы жизнь стоила того, чтобы жить. Необходимость обеспечивает фиксированные ограничения, в соответствии с которыми последовательные творения вашей жизни будут складываться в чистую имманентность и целостность.
Беспутные, предающие свои обязательства люди нередко ссылаются на свою «креативность» в качестве оправдания: «Как я могу сдерживать свой гений? Как я могу сдерживать свою любовь?» Но на самом деле люди предают обязательства, поскольку они скучны, они не способны прокладывать новые пути из сложных ситуаций. По-настоящему творческий человек будет нести свой крест несмотря ни на что, потому что он всегда найдет способ проложить новый путь.
Социо-либеральный нигилист, который уходит от супруга или супруги, чтобы «стать более творческим», никогда не создаст ничего существенного и долговечного. Вот человек, который рвет свой холст после одного мазка. Это обидчивая, скучная и нездоровая жизнь, которая отказывается утвердить любой конкретный бросок игральных костей лишь потому, что Вселенная не оправдала фантастических ожиданий.
6. Творчество — это подчинение
Чтобы оценить базированный характер делезианского проекта, полезно противопоставить его двум другим наиболее известным постструктуралистам. Деррида и Фуко. по сути, отвергают онтологию, т. е. изучение того, что существует (May 2005, 171). И Деррида, и Фуко в первую очередь занимались препятствиями, преграждающими путь к четкому определению того, что именно существует. Для Деррида главным виновником этого был сам язык, бесконечно откладывающий любую окончательно согласованную онтологию. Следуя за Хайдеггером в поисках Бытия, Деррида обнаружил, что Бытие состоит в различии и игре: не в фиксированном основании или базе, а в зазорах между тем, что основано. Для Фуко история или генеалогия была предпочтительным аналитическим методом, разрушающим всякое утверждение о том, что существует. Всё, что мы воспринимаем как базовую реальность, под своей поверхностью скрывает зависимость от микрополитических процессов, истоки которых всегда ускользают от нашего понимания.
Как отмечает Тодд Мэй, работы Делёза наполнены онтологией. «Если Фуко и Деррида считают онтологию угрозой для вопроса о том, как можно жить, то Делёз считает онтологию тем самым путем, который необходимо пройти, чтобы адекватно поставить об этом вопрос», — пишет Мэй (May 2005, 15). Если Фуко и Деррида лингвистически и генеалогически деконструируют базу нашего существования, Делёз считает, что освобождение возможно только через радикально строгое описание базовой реальности. Правда, в качестве базы он полагает различие, однако это вовсе не значит, что базы нет, как мог бы предположить наивный постструктуралист. Хотя Делёза больше интересует становление, чем бытие, он, тем не менее, настаивает на бытии становления.
Делёз считает, что на вопрос о том, как жить, мы должны отвечать с верностью вопросу о том, что действительно существует. Если смерть Бога — это великая эрозия ограничений, которая ведет к параличу бесконечного выбора и атомизации, то решение Делёза через Ницше — это свободно культивируемая, самоназначенная ответственность перед эмпирической реальностью. Одна из причин, почему Делёз столь темен, заключается в том, что он очень много говорит о творчестве, которое имеет коннотацию открытости (личностный коррелят левой идеологии), но он считает, что творчество раскрывается только через верность и подотчетность онтологии, которые имеют коннотацию ограниченности, конформизма и консерватизма — по крайней мере, по сравнению с литературным этосом «свободной игры», который можно найти у такого автора, как Деррида. Для Делёза исключительно радикальная эмпирическая базированность делает возможной подлинную свободу и творчество. Ибо окончательное понимание, извлекаемое из верности в отношении реальности, заключается в том, как реальность можно менять, даже если ее нельзя менять как угодно. Доступ к механизмам, с помощью которых можно менять реальность, невозможен там, где нет абсолютной верности в отношении реальности. Подчинение уже устоявшейся реальности открывает пути выхода из нее — пути, которые объективно существуют внутри нее. Попытка создать что-то новое, игнорируя или не подчиняясь тому, что действительно существует, приводит к непродуманному, непрерывному повторению одного и того же, к недоуменному воспроизведению статуса-кво, сколько бы энергии при этом ни прилагалось. Посмотрите на все существующие сегодня левые активистские организации. Верное послушание тому, что есть, базированное подчинение, является условием sine qua non для выхода из этого самого статуса-кво и создания чего-то нового.
7. Мать-фашистка, «сама доброта»
Рассмотрим психобиографический подход к осмыслению идеологической валентности мысли Делёза. Известно, что политические идеологии передаются по наследству — вероятно, где-то между 30% и 60% (Hatemi et al. 2014), — поэтому семейное прошлое автора должно давать хотя бы некоторые подсказки насчет его идеологического центра тяжести. Большинство мировоззрений демонстрирует более высокую корреляцию с родительскими взглядами в более позднем возрасте, что позволяет предположить, что люди в начале жизни экспериментируют, отклоняясь от унаследованного центра тяжести, а затем в конечном итоге устанавливают свою точку зрения где-то ближе к нему.
Согласно совместной биографии Делёза и Гваттари, написанной Франсуа Доссом (Dosse 2011, 89), оба родителя Делёза идеологически были консервативными. Луи Делёз сперва был инженером и владельцем малого бизнеса, потом закрыл свой магазин, став сотрудником крупной фирмы аэрокосмического машиностроения. Луи не любил Народный фронт, левую коалицию, пришедшую к власти в 1936 г., отдавая предпочтение относительно небольшой военизированной партии, известной как «Огненные кресты». Первоначально состоявшая из ветеранов Первой мировой войны, эта фракция пользовалась финансовой поддержкой Франсуа Коти, французского миллионера и бенефициара Муссолини. У партии был католический уклон, поскольку католическая церковь запрещала католикам поддерживать монархическое «Французское действие». «Огненные кресты» были, по сути, французским аналогом нацистской партии в Германии и Национальной фашистской партии в Италии, хотя во Франции эта тенденция была гораздо слабее (на пике популярности партия насчитывала всего около миллиона членов).
После прихода к власти Народного фронта Луи и его жена Одетта были в ужасе от расширения прав и возможностей рабочего класса. Народный фронт проводил такую политику, как обязательные оплачиваемые отпуска для всех рабочих. Жиль вспоминает, как Луи и Одетт с отвращением обнаружили людей из рабочего класса на пляжах Довиля, где семейство Делёзов отдыхало в Нормандии. «Моя мать, которая, впрочем, была сама доброта, говорила, что невозможно ходить на один пляж с подобными людьми» (с. 89)*. Обратите внимание, что от своей матери или ее отвращения Делёз не открещивается, предваряя свои воспоминания категорическим одобрением этой женщины.
Справедливости ради, Жиль, в отличие от своих родителей, был в восторге от места отдыха для рабочих. Мы можем задаться вопросом о способности взрослого объективно вспомнить свои эмоции, испытанные в одиннадцать лет, однако нам нужно принять его свидетельство за чистую монету. В этом выражении солидарности нет ничего удивительного, ведь Делёз на протяжении всей своей жизни последовательно выражал сочувствие угнетенным. Удивительно, однако, то, как Делёз характеризует реакционный ужас своих родителей перед рабочими в Довиле.
Далее Делёз объясняет, что его фамилия означает «дубовый… “От этого дерева, как и от семьи, он хотел только поскорее отделиться, пустившись по ‘линии ускользания’ в свободный дрейф”». У любого, кто знаком с работами Делёза и считает его последовательно левым мыслителем, вызывает недоумение тот факт, что Делёз описывает своих реакционных родителей понятиями, имеющими в его философии в общем и целом положительную оценку. В частности, в делёзо-гваттарианской философии бегство является постоянным объектом желания, а линия ускользания (ligne de fuite) — последовательно одобряемым, хотя и опасным, способом бегства. Они также отводят много времени анализу тех случаев, когда линии ускользания могут увести не туда, а фашизм, вероятно, является тем главным способом предотвращения неудач, который больше всего их заботит. Дерево в их работах имеет негативное значение, как старый, упрощенный и угнетающий образ мысли. «Полный дрейф» — вот суть критической силы высказывания. Тем не менее, Делёз предъявляет своего рода диаграмму Венна, где реакционный фашизм в значительной степени пересекается с его собственной философией — даже если фашистский вектор является лишь режимом неудачи. Досс пропускает этот удивительный комментарий без обсуждения несомненно потому, что академический консенсус в отношении Делёза делает фашистскую проблематику чем-то немыслимым.
Во время нацистской оккупации Франции Делёз и не думал присоединяться к Сопротивлению, хотя на момент окончания школы ему было всего-то 18 лет. Кроме того, он не пошел на войну, хотя мог бы (Dosse 2011, 92). Я не хочу сказать, что ему нравились нацисты; разумеется, это не так. Я лишь указываю на то, что он не хотел с ними воевать, как того, похоже, требуют сегодняшние антифашистские ролевики.
8. От Христа к буржуазии
Идеологическая сложность Делёза проявляется уже в одном из его первых серьезных эссе. «От Христа к буржуазии» (Deleuze 1946) обычно рассматривается как антихристианское и антикапиталистическое произведение. Однако, насколько я могу судить, такая интерпретация представляется очевидно неверной. Во-первых, эссе посвящено некоей Мари-Мадлен Дави. Дави главным образом была известна тем, что часто посещала салоны Марселя Море, левого католика (идеологическое сочетание, гораздо более распространенное в делёзовском контексте, чем мы наблюдаем сегодня на Западе). Сама Дави была ярой спиритуалисткой, она получила степень по теологии в Парижском католическом институте, а затем и докторскую степень по теологии (Dosse 2011, 91). Она построила успешную карьеру, переведя множество работ французских католиков XIX в. Делёз впервые встретил Дави в 1943 г. в замке под названием Ла-Фортрель, где она проводила семинар, в котором участвовали в основном интеллектуалы с христианской и мистической ориентацией (Wiel 2010).
Учитывая посвящение Мари-Мадлен Дави, немыслимо, чтобы Делёз понимал свое эссе как буквально антихристианское. Делёз был молодым человеком, а Дави — впечатляющей, состоявшейся фигурой, игравшей важную посредническую роль в интеллектуальной среде, которую почитал Делёз. Я не говорю, что Делёз исказил содержание своих идей, чтобы произвести впечатление на Дави, но, скорей всего, если бы его замысел был просто-напросто антихристианским, он бы не посвятил эту книгу Дави.
По словам Реймонда ван де Виля, который перевел это эссе на английский язык, «хотя статья, по-видимому, критикует религию, ряд аргументов, которые Делёз использует для артикуляции этой критики, похоже, находятся под влиянием христианского мистицизма, который был широко распространен среди французских интеллектуалов примерно с 1910-х до конца 1940-х гг.» (Wiel 2010). Частичные антихристианские коннотации эссе направлены на вполне определенную концепцию христианства, популярную в то время, — неотомизм, связанный с Жаком Маритеном. Имя Маритена сегодня уже не на слуху, тогда же он пользовался огромной популярностью. Смущает то, что, хотя сегодня мы считаем католическое социальное учение консервативным по сравнению с торжествующим на Западе социальным либерализмом, в свое время Маритен представлял гуманистическую либерализацию христианства. Короче, в той степени, в какой это эссе является антихристианским, оно противостоит неотомистской либерализации христианства.
В одном смысле «внутриположность» имеет негативную валентность. Почти всегда «внешнее» — это то, куда хочет заглянуть Делёз, тогда как внутриположность — это болезненная тенденция, которой следует избегать. Однако в этом эссе он с сожалением ссылается на распространенное впечатление, будто дух исчерпал себя, добавляя: «Мы хотим сказать, что сегодня многие люди больше не верят во внутреннюю жизнь». Стало быть, он признает, что здесь есть проблема, которую необходимо решить. При внимательном прочтении этого эссе мы обнаруживаем, что с самого начала своей карьеры Делёз не отвергает катастрофу внутреннего опыта, с которой сталкивается современный человек. Он считает, что мы привязались к болезненному понятию внутриположности, хотя не то чтобы Дух, внутренний опыт или внутриположность как таковая являются тривиальными или презренными проблемами. Напротив, Делёз будет одержим по сути частным, антисоциальным, психическим опытом, даже если в равной степени его будет интересовать и сам опыт, и то, как он связан или не связан с опытом других.
Делёзовская критика либерально-гуманистического христианства заключается в том, что Христос понимается как принесший «благую весть» о Внешнем, но в конечном счете это Внешнее само по себе является внутриположностью. Либерально-гуманистическое христианство заботится только о человеческой природе: уменьшить грех, молиться, подставлять другую щеку и проч. Такая версия христианства «пришла не спасти мир, но спасти нас от мира». Делёз призывает к истинному христианству, которое действительно придет во имя спасения мира.
Христианство, которое Делёз, пусть не открыто, одобряет в своем эссе, — это христианство, которому отдавала предпочтение Дави (включая и тех мистиков, которых она изучала, вроде Гильома из Сен-Тьерри). Если томистическая традиция склонна ставить рассудок выше желания/любви, то «аффективистская», что называется, мистическая традиция ставит желание/любовь выше рассудка. Как отмечает ван де Вил, аргумент Делёза в этом эссе, который также появляется гораздо позже в книге «Что такое философия? (Deleuze and Guattari 1994) — воспроизводит аргументы, выдвинутые анонимным мистиком XIV в. в манускрипте под названием «Облако неведения». Поскольку я не слишком большой знаток средневековья, я не могу сделать ничего лучшего, чем процитировать компетентное резюме логики «Облака» ван де Виля:
Автор «Облака» проводит различие между ложным «образом» внутриположности и истинной внутриположностью. Ложный образ внутриположности возникает, когда человек пытается описать духовную жизнь так, как это делает интеллектуальная традиция, в терминах пространственных метафор «выше» и «ниже», «внутри» и «вне». Затем автор «Облака» предупреждает, что эти слова легко могут быть истолкованы неправильно. Те, кто исходя из этих образов делает вывод, что нужно оставить позади все исторические и телесные аспекты жизни, просто переведя внутриположность в ментальные акты, заблуждаются, попадая в порочный круг. Они основывают свое представление о внутриположности на различии между внутриположном и внеположном, которое зависит от рассудочной образной оппозиции, которую можно помыслить, так сказать, только извне. Но это не истинная мудрость; на самом деле это безумие, говорит автор «Облака», это фантазия, это «против природы». Они не постигли истинной внутриположности. Парадоксально, но эта истинная внутриположность не знает «внутреннего» и «внешнего», не различает «телесного» и «душевного»: «Наш внутренний человек зовет это Всем».
Эта логика вновь появляется в книге «Что такое философия?» как база для того, что Делёз и Гваттари называют имманентностью. Когда Делёз отвергает современный болезненный культ внутриположности, он не отдает предпочтение его противоположности, некоему грандиозному и витальному внешнему, находящемуся снаружи внутреннего. Именно наше постоянное возвращение к этому различию, эта «рассудочная образная оппозиция», по словам «Облака», и есть патология. Напротив, Делёз всю свою карьеру отстаивает истинную внутриположность, которая не нуждается ни в каком внеположном. Она не начинается с осмысления или опоры на внеположное, которым она наслаждается в своем самосознании как внутриположным. Она также не приходит к какому-то внеположному впоследствии, поскольку до такой степени внутриположна, что внеположное просто нигде не обнаруживается. Делёз и Гваттари очень туманно называют эту радикальную внутриположность Внешним. Радикальная внутриположность у Делёза — как мы видели, католическая внутриположность — это воинственные, интуитивные, рассудочные отношения с бесконечно удаленным Богом. Внешне «отдаленнее любого внешнего мира, потому что оно еще и внутреннее, которое глубже любого внутреннего мира; такова имманентность» (Deleuze and Guattari 1994, 59).*
Следует четко понимать, что перед нами не диалектика. Речь не идет о том, что человек получил доступ к истинной внутриположности через Внешнее, которое в определенный момент развития становится внутриположным. Точно так же, человек не достигает Внешнего через развитие внутриположности, которая становится своей противоположностью. Скорее, существует Внешнее, бесконечное и нам недоступное, мы же являемся его постоянным и беспрерывным разворачиванием. Мы состоим из той же субстанции, но в конечной форме. Бог — традиционное имя этой Внешней силы или конечной инстанции, которую мы познаем только на расстоянии и которую, тем не менее, воплощаем практически во всяком действии.
Политические следствия из этого поразительны. Мы показали, что рассматривать Делёза как антихристианина нелепо, однако что мы можем сказать о его предполагаемом антикапитализме? Что касается христианства, мы показали, что его врагом является не христианство, а ложное различие, лежащее в основе болезненного, модернизированного, либерализованного христианства. А именно, рассудочная оппозиция внутриположность/внеположность, или дух/природа. В отношении капитализма его точка зрения аналогична. Так же как его неявной «антихристианской» мишенью в этом эссе является Маритен, его неявной антикапиталистической мишенью является Жан-Поль Сартр. Сартр был воплощением марксистского, активистского интеллектуала, который горячо верил в сплочение рабочих во имя коммунистической революции. Делёз нападает не столько на буржуазию, сколько на то, что в буржуазии (и в Сартре) является болезненным.
Перефразируя сартровскую «Критику диалектического разума», Делёз повторяет идею о том, что некий Вождь в конце концов откроет рабочим новый возможный мир, где они, скажем так, уже не будут работать на своих боссов (Deleuze 1946). Делёз предполагает, что этот сартровский антикапитализм нездоров по той же причине, по которой нездоров либеральный христианский гуманизм Маритена. Рабочие будут освобождены не во Внешнее своей свободы, а в еще одно внеположное (по отношению к внутриположному): Рабочие отныне будут рабами того, кто будет представлять функцию Вождя, будь то Иосиф Сталин или какой-нибудь местный кадр социальной справедливости. Можно сказать, что в работах Сартра ложным различием, аналогичным гуманистическому христианству, является различие между инертным соучастием в капиталистической эксплуатации и приверженностью справедливости (т.е. сокращенно инерция/активизм). Так же как ложные оппозиции либерального христианства ведут к фальшивому виду спасения, ложные оппозиции сартровского антикапитализма ведут к фальшивому виду освобождения: всего лишь «приверженность обязательствам».
И теперь можно наметить контуры уникальной теологической и идеологической позиции Делёза. Во-первых, Делёз утверждал традиционную католическую верность Богу единственно возможным способом, учитывая его контекст либерально-модернистского христианства: Бог находится так далеко вне современного, болезненного человеческого рассудка именно потому, что Бог находится прямо здесь, почему мы и не можем в Него поверить. Также он утверждал приверженность революционному, коллективному освобождению — единственно возможным способом, учитывая контекст коммунистических леваков-сталинистов. Теологическое и политическое решение в обоих случаях заключается в принятии того, что проблемы никогда не существовало. Это «благая весть» Христа и одновременно ключ к несуицидальному движению коллективного освобождения. Восприятие проблемы, которое затем вызывает болезненную, ресентиментную реакцию, является лишь результатом ненужных и ошибочных различий, порожденных современным болезненным рассудком. Сказать, что проблемы нет, не значит сказать, что ничего нельзя сделать. Напротив, осознание отсутствия проблемы как раз и делает возможным творчество, что является делезианским ключом как к не-болезненной христианской этике, так и к не-ресентиментному политическому активизму.
9. Делёзо-питерсонианство
Несмотря на необычайный взлет славы канадского психолога Джордана Питерсона, большинство до сих пор ничего не знает о его научном вкладе в исследование политической психологии. А большинство поклонников Питерсона ничего не знает о лучших фигурах континентальной философии конца XX в., не в последнюю очередь из-за того, что Питерсон широко критикует «постмодернистский неомарксизм». Неудивительно, что люди смеются над моим утверждением, согласному которому между Джорданом Питерсоном и Жилем Делёзом есть много общего. В настоящее время для этой общности нет аудитории, потому что поклонники одной фигуры в целом не любят вторую. Как будто эта книга и так недостаточно идиосинкразична, поэтому нижеследующие рассуждения особенно несвоевременны, одиноки — написаны буквально из пустыни, как это часто и бывает. Но, говоря языком Делёза и Гваттари, мое одиночество — это «крайне населенное одиночество, как сама пустыня, одиночество, которое уже вяжет собственную нить с приходящими людьми, одиночество, зовущее и ждущее этих людей, существующее лишь благодаря им, даже если их еще тут нет» (Deleuze and Guattari 1987, 377)*. Речь о вас, дорогие читатели…
Если существует истинное утверждение, для которого еще нет аудитории, развивайте это утверждение до тех пор, пока сами ее не создадите. Первая стадия — это смех, вторая — создание нового народа (который приходит, чтобы посмеяться, но в процессе развития становится субъектом истины). Это четырехмерная меметическая война. Делёз и Гваттари впервые обнаружили этот механизм в жизни такого художника, как Франц Кафка. Не будучи в должной мере евреем, немцем или австро-венгром, «народ» Кафки отсутствовал, и его литература стремилась его создать (Deleuze and Guattari 1986). Джордан Питерсон реализовал это учение Делёза и Гваттари с беспрецедентным успехом. В течение многих лет он писал книги и записывал видеоролики на задворках академической психологии, несмотря на то что там для них не существовало никакой клиентуры. Лишь позже, когда его видео стали популярны среди разочарованных молодых людей, они начали производить тот народ, для которого и были записаны, с невиданными для случайного, мягкотелого академика масштабами и скоростью. Конечно, я выполняю ту же процедуру, и по мере того, как мы продолжаем обнажать исходный код таких процедур, каждый в конечном итоге сможет производить свой собственный народ (или присоединяться к чужим народам).
Латентное торможение
В период с 2000 по 2005 гг. Джордан Питерсон совместно с различными авторами опубликовал серию статей, посвященных психологической концепции, известной как «латентное торможение» (Peterson and Carson 2000; Peterson, Smith, and Carson 2002). С небольшой натяжкой мы будем трактовать их концепцию и выводы из нее как эмпирико-психологическую версию делёзовской точки зрения на природу творчества и философских инноваций. Мы начнем с Делёза и вернемся к исследованию Питерсона латентного торможения.
Для Делёза одним из самых важных вопросов, который красной нитью проходит сквозь всё его творчество, является вопрос: Как возможна новизна? Как говорится в Стэнфордской философской энциклопедии в статье о Делёзе, «цель философии состоит не в том, чтобы заново открыть вечное или универсальное, а в том, чтобы найти сингулярные условия, при которых возникает нечто новое» (Smith and Protevi 2018). Делёз был известен своим интересом к искусству, особенно к литературе и кино, так как искусство предлагает модели функционирования творчества. Например, кино позволяет по-современному взглянуть на движение, которое «способно мыслить производство нового» (Deleuze 1986). Одна из причин, по которой Делёз и Гваттари много писали о шизофрении, заключается в том, что шизофреники в своей драме демонстрируют радикальную открытость новизне. Кроме того, Делёз и Гваттари были известны своим интересом к жизни животных: для разработки своей политической этики они пользовались примерами из животного мира. Любопытно, что они всегда настаивали на том, что их животные модели были не метафорическими, а буквальными. Они говорили о перевоплощении животных в людей, и это было именно то, о чем шла речь.
Джордан Питерсон давно интересовался смежным вопросом, почему одни люди креативнее других. Фактически, его эмпирические исследования напрямую касаются связи между креативностью и шизофренией. Он тоже весьма часто опирается на модели животных (как, впрочем, и многие психологи).
В статье 2002 г., представляющей для нас особый интерес, Питерсон с соавторами исследует психологический феномен, известный как латентное торможение (Peterson, Smith, and Carson 2002). Латентное торможение — это технический термин для обозначения «предсознательного механизма, который позволяет животным со сложной нервной системой игнорировать стимулы, ранее воспринимавшиеся как нерелевантные» (с. 1138). Как отмечают авторы, низкий уровень латентного торможения связан с шизофренией. Далее в статье проверяется ряд гипотез о связи между латентным торможением, особенностями личности и креативностью. По сути, они проверяют психологические и нейробиологические механизмы, соответствующие определенным делёзовским пропозициям.
Можно было бы углубиться в эту литературу, быть может, извлекши гораздо больше научной базы для различных философских интуиций Делёза. Это потребует другой книги. Пока же достаточно следующего стилизованного резюме.
Делёз был заинтересован в объяснении, каким образом индивиды и группы могут чувствовать и маневрировать вокруг своих особых порогов латентного торможения. Хотя этот механизм является предсознательным, он имеет определенные рекуррентные поведенческие и перцептивные корреляты, которые можно идентифицировать, используя для обратного инжиниринга работы порога латентного торможения. Порог латентного торможения опасен, поскольку, когда он слишком низок, вы сходите с ума, а когда слишком высок, то вы в лучшем случае скучны, а в худшем — фашист. Фокус в том, чтобы понять, где этот порог находится, как им можно манипулировать и как на него ориентироваться.
Не так уж неправдоподобно, что у Питерсона и Делёза был ряд общих существенных мотивов. В основе обоих проектов лежит вопрос о том, как порождать и поддерживать творческую витальность, не попадая в ловушку фашизма. Питерсон много раз говорил, что одним из его постоянных мотивов было понять, как тоталитарное насилие становится возможным, а Фуко сказал о книге «Анти-Эдип» (Deleuze and Guattari 1983), что это введение или руководство к нефашистской жизни. Отнюдь не прославляя шизофрению, Делёз хотел узнать, как мы можем быть более творческими, не попадая в ловушку, которую драматизируют шизофреники. Этот краткий экскурс в некоторые работы Джордана Питерсона открывает нам еще одно окно в наиболее базовые измерения радикального философского проекта Делёза.
Против максимальной детерриториализации
Джордан Питерсон известен своим консервативным страхом перед радикально-левыми перегибами — что молодые СЖВ, бродящие по кампусам колледжей, могут вскоре создать национальные ГУЛАГи. Делёз и Гваттари, пусть и не замеченные в этом, в равной степени обеспокоены перегибами наивного радикального левого движения. Учитывая вышеизложенный анализ существенного теоретического совпадения между Делёзом и Питерсоном, можно предположить, что все они опасались перегибов радикальных леваков по одним и тем же основным соображениям.
Согласно Питерсону и Карсону (Peterson and Carson 2000), шизофрения отчасти порождается сочетанием высокой Открытости и низкого Интеллекта. С другой стороны, креативность частично порождается сочетанием высокой Открытости и высокого Интеллекта. Короче, если у вас латентное торможение низкое, так что ваши «ворота» пропускают много аффективно заряженной информации, вы, скорее всего, станете либо творческим, либо безумным — в зависимости от уровня вашего интеллекта.
Делёз, очевидно, не имел доступа к этой научной литературе, которая окажется разработана только позже. Однако его эмпирические интуиции удивительно прозорливы и соответствуют модели Питерсона, хотя Делёз и Гваттари больше заинтересованы в экстраполяции следствий политического характера. Они отмечают, что как раз таки наиболее радикально творческие или «детерриториализующиеся» индивиды и группы высвобождают потоки, которые с наибольшей вероятностью могут вызвать обратную реакцию или патологическую «ретерриториализацию». Они не ссылаются на интеллект в качестве регулирующей переменной — и неудивительно, учитывая политический контекст и количество только предстоящих исследований. Тем не менее, как на регулирующую переменную Делёз и Гваттари в своих социально-политических моделях неявно ссылаются на интеллект. Рассмотрим, к примеру, отрывок, в котором они проводят различие между креативностью купцов и зависимостью бюрократов и крестьян.
Именно наиболее детерриторизованный поток — согласно первому аспекту — осуществляет аккумуляцию или конъюнкцию процессов, определяет сверхкодирование и — согласно второму аспекту — служит основанием для ретерриторизации (мы уже встречали теорему, согласно которой ретерриторизация всегда имеет место именно на том, что более всего детерриторизовано). Так, коммерческая буржуазия городов сопрягает или превращает в капитал знание, технологию, сборки и сети, в зависимость от которых попадут дворянство, Церковь, ремесленники и даже крестьяне. И это именно потому, что буржуазия — вершина детерриторизации, подлинный ускоритель частиц, именно потому, что она проводит также ретерриторизацию совокупности (1987, 220-21).*
Если вспомнить, что в лексиконе Делёза «зависимость» — это слово, которое он ассоциирует с шизофрениками (см. главу HBDeleuze), мы сможем перевести этот плотный отрывок на простой язык. Освобождающая креативность самых умных торговцев высвободила столько новых потоков, что это сделало всех бюрократов и крестьян относительно более шизофреничными. Угнетающие и патологические политические образования, возникшие вслед за купцами раннего Нового времени, были результатом стремления менее интеллектуальных классов контролировать потоки, которые грозили их поглотить. Параллели между Делёзом и Питерсоном в полной мере проявляются сегодня, когда СЖВ, разжигающие авторитарную цензуру, возможно, являются людьми, недостаточно умными, чтобы обрабатывать и творчески регулировать все новые потоки, высвобождаемые всё ускоряющейся цифровизацией. Делёз и Питерсон пытаются понять и поспособствовать созданию условий для творческого, интеллектуального, негэнтропийного производства (искусство, наука, предпринимательство и проч.). Также они пытаются понять и предотвратить — с общим реакционным ужасом — условия, которые заставляют менее разумных возводить ресентиментные и вредные политические формации, будь то меркантилистские государства раннего Нового времени, бюрократия, «безопасные зоны» или ГУЛАГи.
10. HBDeleuze
Биоразнообразие человека (Human biodiversity, соркащ. HBD) — это идея о том, что в человеческих популяциях могут наблюдаться средние различия в разных признаках, что объясняется существованием различного давления эволюционного отбора в разное время и в разных местах. Для современных левых концепция HBD — не более и не менее чем старомодный псевдонаучный расизм. Разумеется, для некоторых белых националистов и интернет-троллей фраза «биоразнообразие человека» может выступать в качестве технически невинного и наукообразного лозунга для некоторых вульгарных идей и замыслов. Тем не менее, для большинства нормальных людей и многих профессиональных исследователей под идеей HBD скрывается некая очевидная, безобидная и неопровержимая реальность: Некоторые люди высокие, некоторые люди низкие и проч. И сегодня большинство подтвердит теорию эволюции как наилучшее доступное объяснение всего разнообразия живых организмов. Кого же это волнует?
HBD сегодня стало уникальным поляризующим громоотводом, поскольку предполагает, что могут существовать реальные, средние различия в признаках между расами. По той же причине, по которой одни человеческие популяции эволюционируют в направлении к белой коже, а другие — к черной или коричневой, некоторые популяции эволюционируют в направлении к большему или меньшему количеству различных мировоззренческих и поведенческих черт.
Я не специалист в этой области, и моя книга не посвящена дебатам вокруг HBD, поэтому я не стану излишне много рассуждать. Самое главное, что идея HBD — будь она истинной или ложной — запрещена в большинстве существующих на сегодняшний день институционализированных статусных игр. Приведем лишь самый свежий пример: исследователь интеллекта Ноа Карл был недавно уволен со своего поста в Кембриджском университете из-за петиции, в которой его относительно обычные исследования в области психологии ассоциировались с идеей HBD (Carl 2019). Эта культурная чувствительность восходит к временам Дарвина, но в нашей эпохе общий запрет на HBD восходит, по крайней мере, к середине 1970-х гг. «Социобиология» Э. О. Уилсона (1975) стала, вероятно, первым случаем в послевоенный период, когда крупная научная работа, выдвигающая аргументы в пользу HBD, вызвала значительный общественный резонанс. Современным читателям более памятен случай Чарльза Мюррея, чья написанная в соавторстве книга «Колоколообразная кривая» (1996) в большинстве гуманитарных магистерских программ однозначно классифицируется как псевдонаучная расистская анафема.
Причина этой исторической интермедии к 1975 г. заключается в том, что первая явно политическая книга Делёза была написана в соавторстве с Феликсом Гваттари в 1972 г. Вторая, также в соавторстве с Гваттари, в 1980 г. В «Анти-Эдипе» и «Тысяче плато» нашли отражение все споры и протесты вокруг социобиологии, бушевавшие в 1970-е гг. Мой аргумент не будет заключаться в том, что дебаты по социобиологии были подтекстом работы Делёза с Гваттари. Я лишь хочу сказать, что, поскольку широкомасштабные беспорядки конца 1960-х гг. уже привели во многие гостиные эту проблему, крайняя политическая чувствительность к разговорам о расе в 1970-х гг. уже была проводом под напряжением.
Поэтому потрясающе читать многочисленные ссылки Делёза и Гваттари на то, что черты характера неравномерно распределены между людьми и группами, включая расовые. Понимание политической чувствительности 1970-х гг. теперь помогает нам объяснить давнюю загадку, которая многим не давала покоя: Почему Делёз и Гваттари писали с такой нарочитой неясностью? Представляется весьма вероятным, что здесь работает некая смутно штраусианская техника, в рамках которой Делёз и Гваттари (или, возможно, только Делёз) намеренно разрабатывают запредельно идиосинкразический язык, чтобы тайно протащить определенные идеи, запрещенные в то время среди политических леваков. Эти идеи нельзя было рассматривать как основу для политической теории, согласующейся с HBD, без того, чтобы не стать анафемой в левом окружении (высокостатусная французская интеллектуальная жизнь в целом этим левым окружением и была). Но они могли бы сделать это, оставаясь темными, по крайней мере для большинства своих читателей — тупого большинства, которое будет утверждать, что любит всё модное, даже если не понимает его.
Теперь мы в состоянии составить каталог некоторых из наиболее явно «проблематичных» убеждений Делёза и Гваттари.
Прежде всего, Делёз, в частности, всегда был удивительно откровенен в своем предпочтении сильного над слабым. Его проиерархическая позиция проявляется наиболее четко и, возможно, наименее удивительно в его книге о Ницше (Deleuze 2006). С любовью отзываясь о бессовестном аристократизме Ницше, Делёз говорит:
Одно из величайших изречений «Воли к власти» таково: «Всегда следует защищать сильных от слабых» (VP, I, 395).*
Даже биограф Делёза Досс признает, что Делёз предпочитает сильных слабым. Жаль, что Досс просто-напросто обходит молчанием это реакционное утверждение, противоречащее его якобы левому философу. Обратите внимание, в частности, на неявную ссылку на эволюционно-психологическую модель (Dosse 2011, 131):
Наперекор идее, что всё, что производится, возвращается в циклическом движении, Делёз видит в вечном возвращении результат отбора сильнейшего, уничтожения слабых: «Оно превращает волю в нечто целостное… превращает воление в творение, оно составляет уравнение “хотеть = творить”».**
Делёз хочет очистить волю, убрать из нее всё слабое, посредством жестокого и вечно повторяющегося процесса дарвиновского отбора. Творчество по Делёзу — не забава, не игры для старушек и детей: оно предназначено только для сильных, у которых есть воля безжалостно фильтровать свои собственные идеи, оставляя исключительно вечные. Это вам не прогулка в парке, друзья.
Пока мы говорим о чистоте, у Делёза и Гваттари хватает наглости призывать к очищению расы (1987, 98).
Быть внебрачным ребенком, полукровкой, но благодаря очищению расы. Именно тут стиль создает язык. Именно тут язык становится интенсивным, чистым континуумом значимостей и интенсивностей. Именно тут весь язык становится тайным, хотя ничего не скрывает, вместо того чтобы выкраивать в языке тайную подсистему.***
Разумеется, я не говорю, что Делёз и Гваттари являются тайными белыми супремасистами. Я утверждаю, что в их работах мы наблюдаем решительный отказ от левого морализма в отношении разговоров о расе, того самого левого морализма, который уже имел место в 1970-х гг., а ныне, в 2019 г., достиг своего апогея. Они не расисты — вовсе нет — скорее расовые акселерационисты: Освобождение угнетенных рас будет достигнуто не с помощью «антирасизма», в самом понятии которого заложена неприязнь, а путем чрезмерной выработки расы. Поскольку понятие расы — это болезненная фиксация нетворческой идентичности, очистить его означает подвергнуть его ницшеанскому «вечному повторению», а это, как мы видели, означает дарвиновский отбор. Очищение расы означает не запирательство, а истощение, выплескивание грязной воды. Очищение означает фильтрацию до тех пор, пока не останется только настоящее ядро. А настоящее ядро расы в конечном итоге имеет мало общего с расой — скорее с непрерывной вариацией креативности, ранее расой кодировавшейся: вот почему в результате нужно стать внебрачным ребенком, чтобы наконец покончить с расой в пользу позитивного, поступательного движения вперед по уникальным линиям ускользания. Язык здесь «становится тайным» не потому, что человек вырезал какой-то непонятный код, а только потому, что он вступил в уникальную, индивидуальную, интуитивную перспективу за пределами устоявшихся социальных ожиданий и среднестатистического интеллекта. Человек ничего не скрывает, и всё же отныне он наделен тайным языком — просто потому, что вступил в подлинное творчество (LaFinta 2004).
Если сегодня, придя на собрание левых активистов, вы станете говорить о какой бы то ни было чистоте, в лучшем случае вас встретят холодным взглядом. Если вы собираетесь говорить об очищении воли, забудьте! Если вы заговорите об очищении расы, если только вы не черный или коричневый, что ж, можете сразу же застрелиться: вам конец! А вот Делёз и Гваттари с этим справляются…
Более того, Делёз никогда не стеснялся своего презрения и отвращения к маргинализованным людям (в те времена их звали «маргиналами»). Отметим, кстати, что чувствительность к отвращению является надежным коррелятом политического консерватизма (Inbar, Pizarro, and Bloom 2009). В частности, говоря о душевнобольных, Делёз в своем эссе-интервью с Клер Парне (Deleuze and Parnet 2002, 139) отмечает:
Шизофрения — это спуск молекулярного процесса в черную дыру. Маргиналы всегда внушали нам страх и легкий ужас. Они недостаточно конспиративны. (Примечание Делёза: В любом случае, они меня пугают… Это катастрофа, когда они проваливаются в черную дыру, откуда не произносят уже ничего, кроме микрофашистской речи своей зависимости и своего головокружения: «Мы — авангард», «Мы — маргиналы»…).
Скобка, указывающая на исключительное право Делёза на это примечание, скорее всего, присутствует потому, что Клер Парне была карьерным журналистом. Можно услышать, как она говорит: «Эээ, Жиль…», а Делёз отвечает: «Ладно, ладно, Базированный Философ внесет ясность, поставив свою подпись». Я обращаю внимание на этот незначительный нюанс, так как он является еще одной точкой отсчета, показывающей, что Делёз был прекрасно осведомлен о культурных войнах, которые начали к тому времени усиливаться. Конфликт между СЖВ и настоящими интеллектуалами не свойственен нашему времени.
11. Становление невоспринимаемым
Делёз и Гваттари неоднократно подчеркивают значимость становления невоспринимаемым, однако эта идея так и остается малопонятной.
Когда эта фразу озвучивают сегодня, особенно в Интернете, это часто делается для того, чтобы прославить безвестность. Делёзом и Гваттари пользуются для оправдания определенного вида сокрытия. Вспомните, например, количество анонимных аккаунтов в Твиттере, сыплющие делёзовскими дублями с эзотерическими именами пользователей и неразборчивыми цифровыми аватарами. Я не возражаю против таких стилистических предпочтений, нередко для них есть веские причины, но они не вытекают из делёзо-гваттарианской политики невоспринимаемости. На самом деле, как я объясню ниже, Делёз и Гваттари четко говорят, что характерной чертой становления невоспринимаемым является отсутствие необходимости в масках и отсутствие необходимости что-либо скрывать. Это лишь один пример того, как понятие «становления невоспринимаемым» широко понимается неправильно.
Однако, что более важно, я должен начать с того, почему становление невоспринимаемым является столь важной и привлекательной идеей. Не только для Делёза и Гваттари или даже для их аудитории, но для всех. По Делёзу и Гваттари, становление невоспринимаемым называется пиком опыта агента в процессе освобождения. Это вершинный этап ускользания или отрешенности (Murphy and Niederhauser 2019) от всего, что, казалось бы, так хорошо господствует, сбивает с толку и захватывает нашу потенциальную энергию и способности[6].
Эти силы господства называются многими именами в делёзо-гваттарианском регистре: молярная, или жесткая, сегментация, страты и проч. Одна из причин, почему модели Делёза и Гваттари настолько сложны для понимания, заключается в том, что они стремятся в точности определить действие этих сил при очень высоком разрешении, но в наиболее общих и абстрактных терминах, которые они могут для него найти — чтобы охватить множество условных вариаций, не заблудившись в сорняках, сохраняя максимальную применимость к различным ситуациям. Ценой тому, конечно же, является печально известный рог изобилия громоздких терминов.
Для краткости я предпочитаю называть эти различные механизмы господства, в качестве множества, институтами. Куда бы мы сегодня ни посмотрели, мы видим извращенные институты, ведомые зомби-режимы; эти институты нередко характеризуются очевидным и крайним жульничеством, внутренним и внешним; они регулярно дают сбои, причем предсказуемым образом — всё это легко решаемо, но решения эти часто структурно запрещены самим функционированием институтов на каком-то более высоком уровне.
Школы, системы уголовного правосудия, патологические семьи, корпорации, университеты, медиа и проч. — все эти институты представляют собой молярные агрегаты, требующие нашего участия и фиксирующие наши возможности, причем таким образом, что всё большему числу людей они кажутся безумными и нежелательными (по совершенно разным соображениям или, скорее, по соображениям, изложенным на совершенно разных языках). Так, леваки могут сказать, что главными институциональными виновниками являются рынки труда, «институционализированный» расизм и проч., в то время как консерваторы могут указать на университет, профсоюзы и проч. Одна из задач причудливой лексики Делёза и Гваттари, как мне кажется, заключается в том, чтобы обойти эти идеологически обусловленные развилки — не в желании быть двухпартийным, а просто потому, что все эти институционально захваченные пути закрывают доступ к той самой проблеме, которую нужно решить.
Речь идет о том, чтобы понять, как жить под бременем всё более сложных институтов, которые всё лучше воспроизводят сами себя — понять их не только философски, но и эмпирически, чтобы мы могли перехитрить их и маневрировать со всё большей свободой. Нечто подобное я и имею в виду, когда использую термин «освобождение». На мой взгляд, научно обоснованное выявление механизмов освобождения и их распространение в культуре — это всё, что может означать «революционная политика». И хотя Делёз с Гваттари несколько уклончивы в своих окончательных позициях относительно того, как должна выглядеть успешная революционная политика, я по-прежнему убежден, что их теоретический проект, по сути, заключается в картировании и моделировании механизмов того, что я бы назвал освобождением. В любом случае, какой бы регистр ни предпочитали сегодня, почти все заинтересованы в каком-то ускользании, выходе, освобождении от какой-то непрозрачной институциональной патологии.
Согласно Делёзу и Гваттари, становление невоспринимаемым — это решающий заключительный этап любой подлинной линии ускользании. Не в том смысле, что всё раз и навсегда исполнилось и свершилось, а в том смысле, что это зенит определенного, повторного механизма — знаменитой «линии ускользания». Если они правы, то всех нас должно заботить, что значит стать невоспринимаемым. Действительно, если сегодня вы хотите жить, а не просто выживать, вы должны становиться всё более невоспринимаемыми.
Быть воспринимаемым — быть манипулируемым
По очевидным причинам мы испытываем сильное желание быть понятыми для других. Здесь-то и возникает проблема, ведь в той степени, в какой мы хотим быть воспринимаемыми со стороны других, мы обуславливаем наши собственные выражения условными социальными и политическими переменными. В идеальном сообществе это может и не быть проблемой. Если же технологические или другие контекстуальные переменные отклоняются в сторону, искажая и деформируя восприятие людей, то мышление и речь, направленные на то, чтобы быть воспринимаемыми, могут легко запереть человека в неизбежной жизни, полной путаницы, страданий и воспроизводства того самого, что он презирает. Такова вкратце проблема воспринимаемости.
Обратите внимание, что восприятие относится к чувственным данным. Поэтому воспринимаемость имеет предсознательный подтекст. Вы можете мыслить восприятие как нечто вроде «понимания», но последнее вводит в заблуждение, поскольку предполагает сознательный интеллект. Этот момент стоит прояснить, так как проблема здесь не в перспективе быть правильно понятым интеллектуально. Мы будем стремиться быть понятыми, но только теми, кто способен понять. Стремиться быть воспринимаемым — значит обслуживать изначальные и самые дешевые части психологического и поведенческого механизма других людей.
Быть воспринимаемым означает, что институты и их попечители владеют способами вами манипулировать. Быть воспринимаемым означает, что на вас легко «навесить ярлык», и что еще хуже — зачастую правильный. Если вы оптимизируете свою жизнь в зависимости от того, как вас воспринимают, и особенно если вы строите свою жизнь в зависимости от того, как вас воспринимают (т.е. любой человек, чей доход основан на статусе в институциональной иерархии), то ваши мысли, слова и действия легко контролируются со стороны тех, кто в институциональной иерархии стоит выше вас. Ведь по определению их указы имеют большее влияние на восприятие каждого, кто настроен на иерархию, чем всё то, что вы можете сказать или сделать, поэтому угождать статусным начальникам является необходимостью для тех, кто хочет, чтобы его воспринимали хорошо. Вопрос этот значительно усложняется в условиях институционального распада и фрагментации, каковые мы наблюдаем в настоящее время, следственно, нам потребуется более детальное рассмотрение этого вопроса позже. А пока что большинство из нас всё еще маневрирует в жизни, в подавляющем большинстве случаев характеризующейся инерцией массовых институтов, поэтому, даже если институты очень скоро разрушатся, в течение следующих нескольких поколений, для большинства людей общих уроков, изложенных здесь, будет достаточно еще в течение довольно длительного времени.
Быть воспринимаемым — быть захваченным
Другую проблему, связанную с восприятием, легко понять в нашем нынешнем цифровом контексте. Эту проблему можно назвать мотивационной. Восприятие вызывает дофамин, а дофамин заставляет вас делать больше того, что его вызвало. Чем больше ваша мотивация зависит от дофамина через воспринимаемость, тем с большей уверенностью можно сказать, что вы не создаете оригинальных и долгосрочных проектов, потому что такие проекты требуют длительных периодов нулевой воспринимаемости. Когда Делёз и Гватарри говорят «привносить в мир что-то непонятное (1987, 378)»*, они имеют в виду именно это. Они не говорят, что в мир следует привносить любую устаревшую бессмыслицу или что идеи или произведения искусства должны быть непроницаемыми по своей форме. Делёз и Гваттари говорят о том, что ничто, сто́ящее мысли, слов и действия, не будет заранее подгоняться под схемы восприятия других людей. Все достойные творческие проекты поначалу, когда они только являются на свет, непостижимы. Любой проект, который сразу же становится понятным, является продуктом кого-то, кто оппортунистически заполняет существующие схемы восприятия. Это противоположность творчеству; такой тип работы — это выполнение заказов от произвольной динамики социального мнения (угадайте, откуда эти мнения, скорее всего, придут, угадайте, какой высшей функции эти мнения, скорее всего, будут служить). Они не против ясной коммуникации или прозрачной самопрезентации — они против любого, кто творит во имя того, чтобы быть оцененным в рамках уже существующих схем восприятия. Совершенно нормальная коммуникация и самопрезентация могут полностью исказить восприятие, а самые эзотерические, анонимные, искаженные коммуникации могут быть рабски подогнаны под восприятие, уже существующее.
Если человек не творит на топливе быстрого признания, то чем мотивируется творческая работа в период нулевой воспринимаемости? Чтобы творить что-либо, кроме воспроизведения статус-кво, требуется иной тип мотивационной системы. И вот, Делёз и Гваттари предлагают такую систему, которая в каждом пункте противопоставляется захвату воспринимаемостью. Они, скорее, советуют построить план имманентности (жест творческого «похуизма», который по своей природе вознаграждает сам себя), а затем работать с ней как с любимым делом. «Тайна всегда имеет дело с любовью» (1987, 97)*. Это не клише, хотя многие из их анализов посвящены механизмам господства, а другие — изысканному в своих деталях моделированию того, что включает в себя любимое дело и способы им заниматься. Если вам недоступно такое состояние, так это потому, что вы захвачены если не восприятием, то какой-то другой ловушкой («Хорошо ли это? Стоит ли оно того?» — вот вопросы, которые обычно завуалированы под «Что подумают люди?»). Таким образом, стать невоспринимаемым — значит создать проект иного типа, на другой мотивационной системе — системе имманентной, внутренне самомотивирующей творческой продуктивности, а не опосредованного, внешнего, отчужденного труда, удовлетворение от которого всегда остается недостижимым.
Чтобы сделать неотразимую отсылку к Делёзианцам из Твиттера, с которых мы начали, я хочу сказать, что цифровые маски этих людей нисколько не помогают в решении проблемы захвата восприятием. Ведь плодотворности многих из них хватает лишь на короткие всплески творческих возможностей, пока они получают перцептивную дофаминовую плату; но очень редко эти люди могут довести такие творческие всплески до создания плана имманентности. Так происходит оттого, что, как мы увидим, маска — это и есть лицо.
Таким образом, проблема восприятия заключается в захвате, восприимчивости к манипуляциям и утрате способности творить и исполнять сущностные произведения.
12. Акселерация
Если нужно было бы вкратце описать экономическую идеологию Делёза — его основную позицию по отношению к капитализму и рынкам, — пришлось бы сказать, что он рыночный анархист.[7] Он явно квалифицируется, как мы это сегодня назвали, в качестве акселерациониста, но об этом мы поговорим чуть позже. Рыночных анархистов принято относить к левому крылу, поскольку они рассматривают капитал и капитализм с негативной точки зрения, но их же относят и к правому крылу, поскольку рынки они рассматривают с позитивной точки зрения. Капитал, монополия и капитализм — векторы угнетения, а рынки и предпринимательство — векторы освобождения. Рыночные анархисты считают рынки антикапиталистическими, тогда как общепринятая точка зрения заключается в том, чтобы свалить капитал и рынки в одну большую идею капитализма.
Делёз и Гваттари, вероятно, познакомились с этой перспективой благодаря Фернану Броделю, историческому социологу, который специализировался на изучении раннего современного капитализма с точки зрения земельного вопроса. Бродель обнаружил, что капитализм возникает как «антирынок», в результате применения агентами различных тактик, не связанных с предпринимательством и поиском ренты (Braudel 1982, 230). Сегодня политологи знают, что разногласия по поводу «государственного вмешательства в рынок» являются основным политическим расколом (измерение дебатов, которое лучше всего предсказывает позиции людей по другим вопросам). Но, по мнению Броделя, вмешательство государства для уравновешивания рынка как раз и привело к появлению капитализма в том виде, в котором мы его знаем (т.е. всех антисоциальных тенденций, которые мы сегодня ошибочно приписываем рынкам как таковым).
На протяжении двух томов «Капитализма и шизофрении» Делёз и Гваттари в значительной степени опираются на различие между детерриториализацией и ретерриториализацией. Детерриториализация обычно имеет положительную валентность (хотя всё не так просто), ассоциируясь с радостью, творчеством и освобождением. Ретриториализация обычно имеет отрицательную валентность (хотя это не так просто), ассоциируясь с печалью, инертностью и консерватизмом. Проще всего понять эти громоздкие термины сквозь призму рыночного анархизма. Рынки и предприниматели детерриториализуются: ценовой механизм распределяет информацию о том, где, когда и как создавать новые проекты, представляющие социальную ценность, а предприниматели для этого свергают угнетающие институты, подрывая господствующие монополии. Капитализм — это то, что мы называем ретерриториализацией рынков: успешные предприниматели покупают политическую власть или становятся государственными деятелями, некомпетентные предприниматели, проигравшие на рынке, пользуются демократической тактикой для лоббирования привилегий, защиты и проч.
Именно в этом свете мы теперь можем понять знаменитый акселерационистский пассаж в первом томе совместной работы Делёза и Гваттари. Обсудив ряд марксистских проблем, они спрашивают:
Какое в таком случае решение, каков путь революции? <…> Уйти с мирового рынка, как советует Самир Амин странам третьего мира, предлагая забавно обновленный вариант фашистского «экономического решения»? Или же идти в противоположном направлении? То есть идти еще дальше в движении рынка, раскодирования и детерриторизации? Ведь, быть может, потоки еще недостаточно детерриторизованы, недостаточно раскодированы с точки зрения теории и практики потоков с высоким шизофреническим содержанием. Не выходить из процесса, а идти дальше, «ускорять процесс», как говорил Ницше, — на самом деле таких примеров мы практически не видели (1987, 239-40).*
Пускай в этом пассаже есть некоторая двусмысленность (их призыв к акселерации заключен в осторожном «может быть…»), Делёз и Гваттари ясно выражают свою симпатию к революционной политике рынка. Справиться с угнетением капитализма путем акселерации рынков — это, безусловно, шизофренический процесс, отсюда и название их двухтомного проекта. Однако, как мы уже видели, это не означает превознесения шизофрении или какого-то наивного представления о шизофренических практиках. Напротив, осмысление шизофренической природы современности является ключом к тому, чтобы оставаться базированным — нереактивным, спокойным, радостным, творческим, освобожденным и освобождающим. Только принимая некоторые, казалось бы, реакционные утверждения, человек вступает в связи, способные разжечь коллективное, конгломератное освобождение. Базированная революционная политика.
Автократия и капитал над бюрократией
Власть и бессилие — не противоположности, а корреляты. Карьерные бюрократы обретают «власть» по мере продвижения по служебной лестнице, но эта власть уменьшает их свободу мысли и передвижения. Такой поверхностный тип «власти» реализуется с тем, чтобы компенсировать растущую степень бессилия. По-настоящему великие государственные деятели, скорее, седлали волны истории. Ничто не является принуждением. Исторические потоки, в том числе экономические, сами по себе никогда не являются источником господства. Господство или угнетение всегда связано с каким-то искусством институционального захвата, установленным для направления, разделения, укрощения или перенаправления потоков.
Для анархо-коммунистических революционеров у Делёза и Гваттари есть странный список любимых государственных деятелей: «Моисей — Еврей, Гензерих — Вандал, Чингисхан — Монгол, Мао — китаец…» (1987, 296)*. Прежде всего, главными политическими врагами Гваттари в то время были маоисты, поэтому упоминание Мао никаких симпатий к маоизму не отражает. Чингисхан и монголы являются особенно частыми ролевыми моделями в «Капитализме и шизофрении», хотя Хан был автократом, склонным к геноциду и завоеваниям. Общим достоинством этих деятелей является то, что они плыли по историческим волнам, не проецируя и навязывая представление о себе. Ими двигали новые идеи, они устанавливали новые связи, использовали новые технологии, становясь тем самым выразителями гораздо более глубоких сил. Их имена — лишь ярлыки для исторической динамики, в то время как современные государственные деятели пытаются, пусть и слабо, стать собственным источником власти, формировать историческую динамику. Один избиратель сегодня поддерживает Хиллари Клинтон во имя, что Хиллари Клинтон сделает для Америки, другой избиратель хочет Дональда Трампа во имя, что он сделает для Америки. Но ни один из них ничего не сделает для Америки, потому что государственные деятели над потоками никакой власти не имеют.
По той же причине, по которой жестокий автократ, такой как Чингисхан, предпочтительнее Джорджа Буша-младшего, так же и капитал предпочтительнее управляемых государством бюрократий. Любой институт, притязающий на власть над потоками, иллюзорен и вреден:
…нет Власти, регулирующей сами эти потоки. Никто не господствует даже над ростом «денежной массы». Если образ хозяина, идея Государства или тайного правительства проецируются вплоть до пределов универсума — как если бы господство осуществлялось и на потоках, и на сегментах, да еще одним и тем же способом, — то мы впадаем в смехотворное и фиктивное представление. Биржа лучше, чем Государство, задает образ потоков и их квантов. Капиталисты могут завладеть прибылью и ее распределением, но они не господствуют над потоками, из которых вытекает прибыль. Власти осуществляются не в таком центре, а в точках, где потоки превращаются в сегменты — они суть менялы, конверторы, осцилляторы (1987, 226)**.
Короче говоря, все несправедливости, которые мы наблюдаем в обществе, — проблемы власти и господства — вызваны не потоками, а институтами, установленными на потоках, «центрами власти… где потоки превращаются в сегменты». Следственно, определенный вид автократии может быть предпочтительнее либеральной демократии, если автократический правитель настроен на объективные потоки, характеризующие мировую историю в данный момент. В таких случаях нельзя сказать, что автократ господствует над народом. Точно так же капитал может быть лучшим правителем, чем государство, так как капиталисты никогда не господствуют над теми потоками, куда они временно вмешиваются (как полагают наивные марксисты), тогда как государственные бюрократии действительно заняты безумными, безнадежными попытками эти потоки контролировать и даже производить.
Следуя этим намекам из «Капитализма и шизофрении», мы можем задаться вопросом, не может ли их идеальной политической ситуацией быть абсолютный, автократический суверен, который просто дает волю потокам (рынки против капитализма). Молекулярная энергия людей достаточно распределена и высвобождена, чтобы автократ не пытался ее контролировать. Если бы такая модель распространилась и на другие государства, то получившаяся международная система была бы очень похожа на предложение Менциуса Молдбага создать лоскутную сеть суверенных корпораций (Moldbug 2008).
13. Реальное, развитое, традиционное
Пожалуй, нет лучшей концепции, иллюстрирующей пропасть между популярным Делёзом и Базированным Делёзом, чем пресловутое «тело без органов». Это понятие звучит как типичный обломок постмодернистского мусора. Но что оно означает? Люди склонны полагать, что речь идет о творческой либерализации. Поменяли аватарку в Твиттере на что-нибудь более загадочное? Это ваше тело без органов. Набросали странную диаграмму в блокноте? На ней изображено ваше тело без органов. Отрезали себе пенис? Тело без органов. В отсутствие четкого позитивного понимания это значение по умолчанию вменяется почти всем самым странным и захватывающим концепциям Делёза: «Чел, оторвись по полной…»
На самом деле, тело без органов, напротив, является концептуальным устройством, предназначенным для того, чтобы вернуть нас к традиции.
Чтобы понять, что такое тело без органов, мы должны углубиться в различие между актуальным и виртуальным, с которым мы впервые столкнулись в главе «Нести свой крест». Опираясь на Спинозу и Анри Бергсона, Делёз ставит на этом различии большой акцент. Напомним, что актуальное — это то, что большинство людей считают реальностью; вы ощущаете свое тело в данный момент, предметы в комнате вокруг вас и проч. Актуальное — это то, что наивные материалисты и марксисты принимают за «материальную реальность», или суровые факты. Однако Бергсон показал, что на самом деле актуальное реальным не является. Актуальное — это лишь набор произвольных, условных и мимолетных обстоятельств и ощущений. Актуальное всегда ускользает в прошлое, поэтому всё, что просто актуально, не является истинным основанием. Скорее, реальным является весь поток времени, который ведет к настоящему и порождает его. Этот длинный непрерывный поток нигде актуально не существует, он виртуален, и тем не менее он — наиреальнейшее из всего реального.
Наше чувство актуального само по себе необъективно и обманчиво ввиду произвольных факторов нашего организма (Hallward 2006, 61). У нас есть веские причины чувствовать, что актуальный момент является реальностью — этого требует наше выживание. Это эволюционно адаптивно. Но то, что полезно мыслить или чувствовать одному конкретному организму, не является полной картиной. Будучи мыслящими существами, мы способны размышлять о наших эволюционных предубеждениях, делая на них скидки. Когда мы делаем скидку на наши эволюционные предубеждения, мы понимаем, что объективная реальность по своей сути является реальностью виртуальной.
Другими словами, мы ошибочно воспринимаем актуальный, настоящий момент как истинный и реальный, но это только из-за наших конкретных органов. Тем не менее, мы способны мысленно представить контрфактическое восприятие: каким бы оно было, если бы мы вычли предвзятость наших органов. Мысленно мы можем воспринимать и творить так, как если бы у нас не было тех органов, которые у нас есть. Обратите внимание, что это, по сути, научный метод — контроль предубеждений, — просто осуществляемый с помощью интуиции, а не формализованных символов и мер. Эти интуитивные контрфактуализации требуют определенных усилий и внимания, поскольку отказ от привычки доверять своим органам сопряжен с когнитивными издержками. Тем не менее, этот умственный труд является задачей для философии и науки par excellence — равно как и для любой другой дисциплины, которая стремится считаться с реальным.
В той степени, в какой мы способны стать телами без органов, куда именно мы двинемся или что именно мы будем стремиться увидеть? Не какое-то хаотическое царство бесконечно неограниченного разнообразия, как ожидает наивное постмодернистское прочтение Делёза. Скорее, тело без органов приводит нас в соответствие с глубоким временем, тем, что Бергсон называл чистой памятью (Bergson 1988), или тем, что я бы назвал традицией — вечной, непрерывной линией божественного творения, бесконечным самосозиданием Бытия.
Воссоединение с глубинным временем — это, оказывается, глубокий источник творчества. Поэтому постмодернистское прочтение Делёза простительно. Но думать, будто тело без органов — это просто творческое насилие, разрушающее неподвижные преграды тела, означало бы полностью упустить суть: сначала оно проходит через весьма требовательную ответственность перед виртуальной и вечной реальностью всего, что было до нас, и всего, что нас переживет.
14. Становление меньшинством
Традиционное понимание «политики меньшинств» сегодня заключается в том, что меньшинства маргинализированы, но они могут и должны сплотиться, чтобы добиться власти. Делёз и Гваттари разрабатывают дьявольскую схему, которая позволяет им безоговорочно защищать меньшинства — во всех своих интервью Делёз только сочувствует политической борьбе меньшинств — и при этом последовательно избегает поклонения жертвам, которое является обычным способом провала буржуазного прогрессивизма. Делёз и Гваттари не защищают меньшинства как таковые, они защищают «становление меньшинством», что тонко переворачивает традиционный нарратив, связывающий маргинализацию и власть. Для Делёза и Гваттари революция или освобождение достигается не тем, что меньшинства создают свою собственную власть, а тем, что творческие люди становятся маргинальными.
Делёз и Гваттари различают два типа бессознательных социальных инвестиций. Это два разных полюса, то есть отдельные случаи могут быть расположены на континууме между ними. Первый полюс — параноидальный и фашистский, тогда как второй — шизоидный и революционный. Первый полюс стремится к укреплению власти, второй — к ускользанию от нее. Я не могу сказать лучше Делёза и Гваттари в их решающем и нетипично прямом пассаже по этому вопросу в «Анти-Эдипе» (Deleuze and Guattari 1983, 277). Я подробно процитирую этот отрывок, потому что он также сочленяет ряд других тем «Базированного Делёза»:
…один фашиствующий параноический тип или полюс, который инвестирует формацию центрального суверенитета, перегружает ее инвестированиями, делая из нее вечную целевую причину всех других общественных форм в истории, контр-инвестирует рабов или периферию, дезинвестирует любую свободную фигуру желания: «да, я из ваших, я отношусь к высшей расе или высшему классу». И шизо-революционный тип или полюс, который распространяется по линиям ускользания, проходит сквозь стену и пропускает потоки, собирает свои машины и слитные группы из рабов или на периферии, действуя как противоположность предыдущему типу: «я не из ваших, я вечно буду относиться к низшей расе, я — животное, негр». Честные люди говорят, что нельзя бежать и уклоняться, что это неправильно и неэффективно, что нужно работать ради реформ. Но революционер знает, что революционно уклонение, withdrawal, freaks, при условии, что оно захватывает с собой участок общего полотна или же уводит кусок системы. Пройти сквозь стену — даже если для этого и нужно будет стать негром на манер Джона Брауна. Джордж Джексон: «Возможно, я уклоняюсь, но, пока я уклоняюсь, я ищу оружие!»*
Революционная политика — это абстрактный, интенсивный процесс, но он производит реальные эффекты: стремление к своему истинному призванию (базированный перевод «желания») вдали от централизованных символических фокусов, т. е. всех основных публичных зрелищ, с последующей творческой перенастройкой своего познания на других в процессе бегства (создание «машин» на «периферии»). Поскольку постоянство молярных институтов вытекает из статистической регулярности распределенных эмоций, установок и поведения, локализованные случаи «пробивания стены» должны вызывать отголоски в совокупной социальной структуре. В частности, эти отголоски увеличивают количество степеней свободы в системе, то есть вероятность и долговременность дополнительных ускользаний. Революция — лишь имя долгосрочного равновесия обобщенной динамики ускользаний: абсолютная Свобода, если вы предпочитаете левый регистр, или свободный Абсолютизм, если вы предпочитаете правый регистр. Революционер не ведет переговоров.
Делёз и Гваттари, делая все свои ставки на «выход», а не на социал-демократический «голос», в этом блестящем пассаже раскрывают свой прото-неореакционный почерк. Вы не сможете не согласиться с политическими выводами этого пассажа, будь вы Питером Тилем, Ником Ландом или случайным либертарианцем-мореплавателем. И всё же они возвышают маргинализированных и одновременно маргинализируют сильных, предоставляя нам виталистский, нерепрезентативный, эмпирически работоспособный радикальный эгалитаризм.
Наша модная ныне антирасистская политика — перераспределение власти в пользу маргинальных групп с помощью таких средств, как «солидарность» и проч. — находится на параноидно-фашистском полюсе. Что касается шизо-революционного полюса, то Делёз и Гваттари не могут быть провокативней. Они категорично утверждают, что каждый может стать меньшинством, стать черным, стать арабом, стать женщиной, стать кем угодно. Как они объясняют в «Тысяче плато», даже господствующей расы никогда не может существовать (1987, 379):
Племя-раса существует лишь на уровне угнетенной расы и от имени угнетения, коему оно подвергается — существует только униженная, миноритарная раса, нет господствующей расы; раса определяется не своей чистотой, а, напротив, примесью, какую сообщает ей система господства. Пария и полукровка — вот подлинные имена расы. Рембо всё сказал относительно этого пункта — взывать к расе может лишь тот, кто говорит: «Я всегда был низшею расой <…> Всё захлестнула низшая раса <…> Вот я на армориканском взморье <…> Я — зверь, я — негр <…> Я принадлежу к далекой расе».*
Тонкий гений этого хода заключается в том, что Делёз и Гваттари могут быть жестоко честными и эмпирически реалистичными в отношении объективного неравенства черт и способностей — не попадая в ловушку расизма или фашизма. Революционный вектор (имплицитно) пересекают лишь те, кто способен следовать своей собственной линии ускользания. Ни в одной из их книг нет ничего о том, чтобы учить ускользать тех, кто на это не способен, ждать отсталых и проч. Никакой болезненной солидарности. Но они не жестоки, не горды и не шовинисты. Они знают, что способности распределены неравномерно и неудобно коррелируют с классом, полом, расой и проч. Однако, настаивая на племенном аспекте меньшинств в революционном освобождении, они блокируют любую возможность непропорционально способных индивидов и групп добиться освобождения силой. Умные или богатые люди не могут победить, празднуя и утверждая свое превосходство. Делёз и Гваттари не возражают, нормативно; они пытаются показать, что такой путь может привести исключительно к параноидальному отчуждению и страданиям, даже и особенно для самых способных.
В качестве отступления, наименее оцененное достижение интеллектуального проекта Ника Ланда на сегодняшний день непосредственно вытекает из парадоксально антирасистского расизма Делёза и Гваттари. Хотя об этом, к сожалению, говорят мало, неореакционная траектория Ланда включает в себя разрушительно сильную дефляцию фантазий белых националистов. Целый раздел «Темного просвещения» (Land 2012, часть 4) посвящен тому, чтобы показать, что белый национализм безнадежен, потому что сегодня все линии ускользания проходят через экзогамию и этническое разнообразие в пользу грубой максимизации интеллекта. В истинно делёзовском духе Ланд отвергает белые этно-националистические тенденции именно потому, что «внебрачный» — вот истинное название «расы»: он высмеивает белый национализм в той мере, в какой он действительно относится к кровосмешению и близкородственному браку среди низкоинтеллектуальных, необразованных, малоимущих белых. Возможно, его самое известное и непонятое произведение, короткая запись в блоге под названием «Гиперрасизм» (Land 2014), развивает эту парадоксально антирасистскую линию мысли. Современный расизм, по его мнению, опирается на идиотские и устаревшие понятия, которые совершенно бессмысленны по сравнению с ростом технологического суперзаряда и планетарного масштаба ассортативного спаривания среди людей с высоким IQ и высоким доходом. Неприязнь к чернокожим — это слабоумие во времена, когда межрасовые браки сверхинтеллектуальных людей сделают большинство нормальных людей устаревшими. Если Делёз смог выразить действенный «расовый реализм», пропустив его через шифр левой риторики, то Ланд выражает действенный антирасизм через шифр поверхностно расистской, реакционной риторики.
Хотя это только подразумевается, Делёз и Гваттари могли бы сказать, что чрезвычайно тупые, печальные и/или бедные люди, как правило, неспособны чего-то избежать или что-то создать — хотя бы потому, что так ловко игнорируют всю проблему. Но из этого общего правила есть, пожалуй, два исключения. Одно исключение — это если человек наделен исключительными творческими задатками, которые компенсируют его объективные недостатки. Такая удача выпадает крайне небольшому числу людей.
Второе исключение — если человека усыновляет или спонсирует кто-то гораздо более умный, более радостный, более богатый, более базированный и проч. В некотором смысле, именно такую политику Делёз, похоже, проводил по отношению к Гваттари. Биография Делёза — это спокойная пустыня: хотя он всю жизнь страдал от болезненных респираторных заболеваний и в конце концов драматично покончил с собой, выпрыгнув из окна, в ней нет ничего особенного, кроме его мышления, письма и преподавания. Он провел свою жизнь в браке с одной женщиной, у них были дети, он избегал путешествий и избегал постоянных социальных, политических и психиатрических событий Гваттари. Гваттари, напротив, был глубоко озабоченным человеком.[8] Он, безусловно, был умным, творческим и способным на значительную работу, как это было в его книгах, написанных в одиночку, и в его активистской и психиатрической деятельности. Но жизнь этого человека была совершенно беспорядочной, причем в такой степени, которая почти не освещалась во вторичной литературе. Трагичная жизнь Гваттари служит печальным, но увлекательным фоном для оценки невоспринимаемо базированной витальности Делёза.
По его собственному признанию, Гваттари «никогда не осмеливался любить свою мать… Когда вам не хватает смелости любить свою мать, вы обречены на бесконечное ожидание у порога жизни. Я постоянно бегу от мира». Когда ему было девять, он имел несчастье наблюдать смерть отчима от инсульта, что, по его словам, спровоцировало приступы сильнейшей паники. Он инициировал множество достойных проектов, но часто в маниакальной, тревожной манере, словно бы для того, чтобы справиться с неразрешенными экзистенциальными конфликтами. Он брался за слишком много проектов, в бешеном, нереальном и самонаказывающем стиле. Он страдал булимией — малоизвестный факт. Он ненавидел солнце и никогда не занимался физическим трудом, не играл в спортивные игры. Его вторая жена сообщает, что он ни разу не купался в океане. Он был глубоко озабочен смертью. Однажды он навестил друга, больного раком на последней стадии, на смертном одре, и покинул встречу, настаивая на том, что его друг «в порядке». По сообщениям, он был не в состоянии завершить прогулку по красивому, знаменитому кладбищу Пер-Лашез в Париже.
Женившись и родив троих детей, он быстро стал отсутствующим отцом, потеряв себя в огромных социальных группах и постоянно, маниакально работая над своими проектами. Первой жене он изменял с интерном из своей клиники, а затем окончательно оставил ее ради молоденькой медсестры, которая обладала превосходной, «богатой личностью». Добившись своей второй жены, он стал серийным бабником. Под политическим прикрытием духа 1960-х гг. он даже стал целенаправленным разрушителем домов, считая это не только оправданным, но и праведным. Его вторая жена в конце концов ушла от него, что повергло его в отчаяние. Неудивительно, что отчаяние стало повторяющейся чертой его жизни. Его депрессия была «впечатляющей как по своей глубине, так и по продолжительности». Хотя нам не следует винить его за тревожность и депрессивность, которые, похоже, в значительной степени были конституциональными, мы также не должны игнорировать его повторяющиеся и сознательно саморазрушительные модели мышления и поведения.
Короче, я подозреваю, что Делёз решил работать с Гваттари, поскольку Гваттари был немного отсталым. Гваттари был умен, но постоянно впадал в активистские заблуждения и депрессивно неупорядоченное мышление. Делёз подавал пример: поддерживайте и творите вместе с угнетенными, печальными, неудачниками, душевнобольными и проч. — только никогда не вступайте в их группы. Не льстите их грехам и ни при каких условиях не позволяйте заманить себя в их лапы.
Так что само понятие «сотрудничество Делёза и Гваттари» следует пересмотреть. Это было не столько сотрудничество, сколько педагогическое спонсорство со стороны Делёза, эксперимент по опеке, основанный на политической этике христианского милосердия. Устойчивый гений Делёз втайне знает, что этот одаренный, но депрессивный бабник, социально либеральный активист обречен на личную и философскую распущенность, но он — базированный муж и отец — превратит идеи мальчишки в нечто особенное.
Мы находим дополнительное подтверждение этому взгляду на их отношения в объяснении исключительно сложного характера «Капитализма и шизофрении». Они никогда не стремились писать непроницаемую книгу, как если бы вырабатывали тайный код. Скорее, стремились написать вполне доступный шедевр, радикально очистив понятия своего собственного творчества, пока эти понятия не утратили сходство с чем-либо уже существующим. Такой проект никогда не реализуется путем гордого самобичевания, в стиле современных белых «антирасистских» интеллектуалов, которые, похоже, считают, что самобичевание каким-то образом революционно. Рассмотрим первую половину пассажа, с которым мы уже познакомились выше. Невоспринимаемое заикание через очищение расы (1987, 98) всегда побеждает заметный «антирасизм»:
Пруст сказал: «Шедевры написаны на своего рода иностранном языке». Это — то же самое, что заикаться, но заикаться в языке, а не просто в речи. Быть иностранцем, но в своем собственном языке, и не только тем, кто говорит на чужом языке, а не на своем. Быть двуязычным, многоязычным, но в одном и том же языке, даже без одного и того же диалекта или наречия. Быть внебрачным ребенком, полукровкой, но благодаря очищению расы.*
Отказавшись играть жалкую роль поклонников меньшинств, они поняли, что, если они еще радикальнее углубятся в их особую, идиосинкразическую природу (как мужчины, как белые мужчины и проч.), результатом будет причудливая примесь, которая по иронии судьбы оставит эти категории идентичности позади. Белые, заинтересованные в упразднении белого господства, должны акселерировать свою белизну, а не поддерживать ее, возмущенно подавляя. Белые «антирасисты» защищают и поддерживают расовое господство, потому что они отказываются иметь и практиковать свою белизну до ее окончательных, бессвязных выводов. Очищение или акселерация своей расы — единственный честный и действенный способ для представителя господствующей расы подорвать расовое господство и способствовать расширению прав и возможностей для расовых меньшинств. В результате получается не «белая националистическая» пропаганда, а странный, кажущийся непроницаемым внебрачный язык, который сбивает с толку и расистов, и возмущенных леваков (не говоря уже о буржуазных комментаторах). Этот внебрачный язык интересен и полезен только тем, кто также сходится на гладких просторах освобожденного творчества. Опять же, случай Ника Ланда поучителен: самая оригинальная и эффективная антибело-националистическая философия по состоянию на 2019 г. была создана в философском блоге, который не может понять ни один журналист или академик, белым британцем, которого журналисты и академики считают расистом. Его внебрачная философия заставляет заикаться язык белого расизма, причем из Шанхая не меньше…
«Капитализму и шизофрении» нечего скрывать, но если вы настолько умственно умиротворены, что ваш единственный метод чтения новых книг — это соотнесение их с предыдущими, то «Капитализм и шизофрения» покажется вам непроходимой. Именно от таких людей они и скрываются. Если вы позволите произведению создать собственную имманентную связность, не требуя и не ожидая, что оно разумно впишется в ваши уже существующие схемы, то вы найдете его систему удивительно логичной и прозрачной. В этой работе Делёз учился тому, как освободиться от собственного успеха и социального статуса, учился тому, как стать маргинальным, учился тому, как стать внебрачным, став иноязычным на своем родном языке. Они пытались показать «прямой и узкий путь», но ведущий не между Правыми и Левыми (как если бы они были центристами), а одновременно из параноидального правого фашизма и ресентиментного левого социализма.
Библиография
Существует множество неплохих ресурсов о Жиле Делёзе, большинство из которых не нуждаются в цитировании здесь, в этой книге. Чтобы найти больше книг, подкастов и видео о Делёзе, смотрите мой список ресурсов на сайте: theotherlifenow.com/deleuze-resources.
Althusser, Louis. 1990. For Marx. London New York: Verso.
Althusser, Louis, and Étienne Balibar. 2009. Reading Capital: The Complete Edition. London: Verso.
Berger, Edmund. 2017. “Deleuze, Guattari and Market Anarchism.” Center for a Stateless Society. https://c4ss.org/content/47692.
Bergson, Henri. 1988. Matter and Memory. New York: Zone Books.
Braudel, Fernand. 1982. The Wheels of Commerce: Civilization & Capitalism 15th-18th Century, Volume 2. New York: Harper & Row, Publishers.
Carl, Noah. 2019. “Noah Carl Controversy: FAQ.” Medium. https://blog.usejournal.com/noah-carl-controversy-faq-ad967834b12d.
Crawford, Lucas Cassidy. 2008. “Transgender Without Organs? Mobilizing a Geo-Affective Theory of Gender Modification.” Women’s Studies Quarterly 36 (¾): 127–43. https://www.jstor.org/stable/27649790.
Deleuze, Gilles. 1968. Difference and Repetition. New York: Columbia University Press.
———. 1986. Cinema 1: The Movement-Image. Minneapolis: University of Minnesota.
———. 1995. Negotiations, 1972-1990. New York: Columbia University Press.
———. 2006. Nietzsche and Philosophy. London: Continuum.
———. 1946. “From Christ to the Bourgeoisie.” Translated by Raymond van de Wiel, December, 1–7. http://documents.raymondvandewiel.org/from_christ_to_the_bourgeoisie_translation.pdf.
Doel, Marcus A. 2002. “Un-Glunking Geography: Spatial Science After Dr. Seuss and Gilles Deleuze.” In Thinking Space, edited by M. Crang and N. Thrift. Critical Geographies. London: Taylor & Francis. https://books.google.com/books?id=oNGEAgAAQBAJ.
Emma, Renold, and David Mellor. 2013. “Deleuze and Guattari in the Nursery: Towards an Ethnographic, Multi-Sensory Mapping of Gendered Bodies and Becomings.” In Deleuze and Research Methodologies, edited by Rebecca Coleman. Deleuze Connections EUP. Edinburgh: Edinburgh University Press. https://books.google.com/books?id=7SCrBgAAQBAJ.
Goodley, Dan. 2007. “Becoming Rhizomatic Parents: Deleuze, Guattari and Disabled Babies.” Disability & Society 22 (2): 145–60. https://doi.org/10.1080/09687590601141576.
Hallward, Peter. 2006. Out of This World: Deleuze and the Philosophy of Creation. London: Verso.
Hatemi, Peter K., Sarah E. Medland, Robert Klemmensen, Sven Oskarrson, Levente Littvay, Chris Dawes, Brad Verhulst, et al. 2014. “Genetic Influences on Political Ideologies: Twin Analyses of 19 Measures of Political Ideologies from Five Democracies and Genome-Wide Findings from Three Populations.” Behavior Genetics 44 (3): 282–94. https://doi.org/10.1007/s10519-014-9648-8.
Hickey-Moody, Anna, and Denise Wood. 2008. “Virtually Sustainable: Deleuze and Desiring Differenciation in Second Life.” Continuum 22 (6): 805–16. https://doi.org/10.1080/10304310802452479.
Holland, Eugene. 2011. Nomad Citizenship: Free-Market Communism and the Slow-Motion General Strike. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Inbar, Yoel, David A. Pizarro, and Paul Bloom. 2009. “Conservatives Are More Easily Disgusted Than Liberals.” Cognition and Emotion 23 (4): 714–25. https://doi.org/10.1080/02699930802110007.
Jean-François Lyotard. 1990. Pérégrinations: Loi, Forme, événement. Paris: Galilée.
LaFinta, Sim. 2004. “Metaprogramming as Anacalypsis in an Age of Auto-Generated Trolls and Daemons.” Aerospace Medicine and Human Performance 33 (2). https://www.nasa.gov/centers/hq/library.
Land, Nick. 1993. “Machinic Desire.” Textual Practice 7 (3): 471–82. https://doi.org/10.1080/09502369308582177.
———. 2012. “The Dark Enlightenment.” http://www.thedarkenlightenment.com/the-dark-enlightenment-by-nick-land/.
———. 2013. “Re-Accelerationism.” Outside In. http://www.xenosystems.net/re-accelerationism/.
———. 2014. “Hyper-Racism.” Outside In. http://www.xenosystems.net/hyper-racism/.
May, Todd. 2005. Gilles Deleuze: An Introduction. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Miller, DC, and Justin Murphy. 2019. “The Rectification of Names with DC Miller: On Conservatives, Fascists, NRx and Free-Speech Leftism.” Other Life. https://theotherlifenow.com/the-rectification-of-names-with-dc-miller/.
Moldbug, Mencius. 2007. “How Dawkins Got Pwned.” Unqualified Reservations. https://www.unqualified-reservations.org/2007/09/how-dawkins-got-pwned-part-1/.
———. 2008. “Patchwork: A Political System for the 21st Century.” Unqualified Reservations. https://www.unqualified-reservations.org/2008/11/patchwork-positive-vision-part-1/.
Murphy, Justin. 2017a. “Capitalism Is an Instance, Not an Essence.” Website. Jmrphy.net. https://jmrphy.net/blog/2017/04/28/capitalism-is-an-instance/.
———. 2017b. “On Turning Left into Darkness.” Jmrphy.net. https://jmrphy.net/blog/2017/04/11/on-turning-left-into-darkness/.
———. 2018a. “Atomization and Liberation.” Vast Abrupt. https://vastabrupt.com/2018/01/07/atomization-and-liberation/.
———. 2018b. “Fascism over Yourself Is Called Autonomy.” Other Life. https://theotherlifenow.com/fascism-over-yourself-is-called-autonomy/.
———. 2018c. “Reality Patchwork and Neo-Feudal Techno-Communism.” Other Life. https://theotherlifenow.com/on-reality-patchwork-and-neo-feudal-techno-communism/.
Murphy, Justin, and Johannes Niederhauser. 2019. “Heidegger, Ecstatic Time, & the Community of Mortals.” https://www.youtube.com/watch?v=ooN1IL06jxc.
Negri, Antonio, and Gilles Deleuze. 1990. “Gilles Deleuze in Conversation with Antonio Negri.” Futur Anterieur 1. http://www.generation-online.org/p/fpdeleuze3.htm.
Peterson, Jordan B, and Shelley Carson. 2000. “Latent Inhibition and Openness to Experience in a High- Achieving Student Population.” Personality and Individual Differences 28 (2). https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00101-4.
Potts, Annie. 2004. “Deleuze on Viagra (or, What Can a ‘Viagra-Body’ Do?).” Body & Society 10 (1): 17–36. https://doi.org/10.1177/1357034X04041759.
Poulous, James. 2005. “Hunter Thompson’s Reactionary Heart.” The American Spectator. https://spectator.org/48677_hunter-thompsons-reactionary-heart/.
Reynolds, Jack. 2006. “Sadism and Masochism — A Symptomatology of Analytic and Continental Philosophy?” Parrhesia 1. https://www.parrhesiajournal.org/parrhesia01/parrhesia01\_reynolds.pdf.
Schnall, Simone, Jonathan Haidt, Gerald L. Clore, and Alexander H. Jordan. 2008. “Disgust as Embodied Moral Judgment.” Personality and Social Psychology Bulletin 34 (8): 1096–1109. https://doi.org/10.1177/0146167208317771.
Smith, Daniel, and John Protevi. 2018. “Gilles Deleuze.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward N. Zalta, Spring 2018. Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/deleuze/.
Sullivan, Sian. 2010. “’Ecosystem Service Commodities’ — A New Imperial Ecology? Implications for Animist Immanent Ecologies, with Deleuze and Guattari.” New Formations, no. 69: 111–28. https://doi.org/10.3898/NEWF.69.06.2010.
Sørensen, Bent Meier. 2005. “Immaculate Defecation: Gilles Deleuze and Félix Guattari in Organization Theory.” The Sociological Review 53 (1): 120–33. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2005.00545.x.
Wiel, Raymond van de. 2010. “From Christ to the Bourgeoisie: Deleuze, Spiritualism, Sartre and the World.” Raymondvandewiel.org. https://raymondvandewiel.org/post/127463632357/from-christ-to-the-bourgeoisie-deleuze.
Wolters, Eugene. 2013. “13 Things You Didn’t Know About Deleuze and Guattari.” Critical-Theory.com. http://www.critical-theory.com/deleuze-guattari-biography/.
[1] Другие книги, подкасты и видео смотрите в моем списке ресурсов на сайте: theotherlifenow.com/deleuze-resources
[2] Книга Lire le Capital (см.: Althusser and Balibar 2009) одновременно эзотеричнее и триумфальнее трудов самого Маркса.
[3] О Хантере С. Томпсоне, который всю свою жизнь был явно и активно связан с левыми, см. Poulous (2005).︎
* Перевод цит. по: Франуса Досс, Жиль Делёз и Феликс Гваттари. Перекрестная биография, пер. И. Кушнарёвой. Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021, с. 562.
[4] Как сказал мне Д. С. Миллер, ссылаясь на Конфуция, консерватизм — это «исправление имен» (Miller and Murphy 2019).︎
* Перевод цит. по: Жиль Делёз, Переговоры, пер. В. Быстрова. СПб.: Наука, 2004, с. 136.
[5] Из этого следует, что левые активисты — в своей одержимости уменьшением несправедливости и страданий — невольно стремятся лишить бедных жизни. Так называемый «деятельный альтруизм» — лишь более высокоинтеллектуальная версия той же логики.︎
* Перевод цит. по: Жиль Делёз, Различие и повторение, пер. Н. Маньковской, Э. Юровской. СПб, 1998, с. 111.
* Франсуа Досс, Делёз и Гваттари, с. 118.
* Перевод цит. по: Жиль Делёз, Феликс Гваттари, Что такое философия?, пер. С. Зенкина. Москва: Академический Проект, 2020, с. 70.
* Перевод цит. по: Жиль Делёз, Феликс Гваттари, Тысяча плато, пер. Я. Свирского. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010, с. 633.
* Там же. С. 362.
* Перевод цит. по: Делёз Ж. Ницше и философия. М.: Издательство «Ад Маргинем», 2003. С. 135.
** Досс Ф. Делёз и Гваттари. С. 169.
*** Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 165.
[6] Об отрешенности (gelassenheit) Хайдеггера и его связи с делёзовским ускользванием см. мой курс с Йоханнесом Нидерхаузером на theotherlifenow.com/deleuze-vs-heidegger
* Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 635.
* Там же. С. 324.
[7] Я благодарю Эдмунда Бергера за продолжительную беседу по этому вопросу. См. Berger (2017), Holland (2011) и Land (1993).︎
* Перевод цит. по: Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. С. 377-378.
* Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 371.
** Там же.
* Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 436-437.
* Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 637-638.
[8] В данном разделе использованы либеральные источники из Dosse (2011).︎
* Там же. С. 164-165.
