Виталий Лехциер. Типы поэтической субъективности и новые медиа (c комментарием ред. отдела критической теории А. Смулянского)
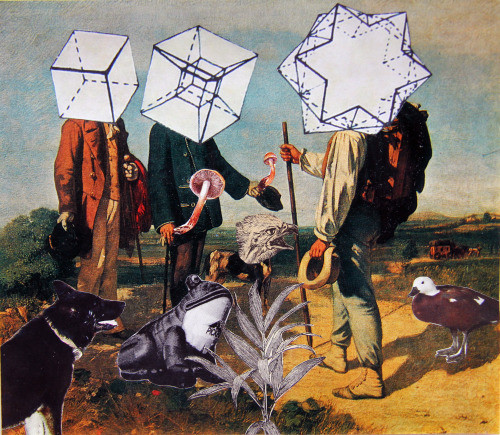
I.
Поэтическая субъективность исторически, как минимум, начиная с Платона, довольно часто определялась с помощью концепта медиумичности или мифа о поэте как медиуме. Поэтический опыт трактовался самим поэтом как особый опыт медиума, человека, который транслирует некий сакральный голос, человека, чьи усилия или чья задача состоят в том, чтобы быть посредником или радиопередатчиком, работающим только на высоких частотах. «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына» — автор с самого начала присваивает себе статус этого эксклюзивного ретранслятора. Я бы не хотел повторять известные вещи об эпохе архаического синкретизма или хоровом авторстве, интереснее было бы рассмотреть саму структуру подобной самоидентификации. Важно то, что это самообоснование поэтического субъекта как не случайного спикера, а человека, говорящего нечто крайне важное, происходит здесь не имманентным образом, а, так сказать, извне, трансцендентно самому говорению. То есть сущность поэта и поэтического находится в
Казалось бы, что этот трансцендентный жест самообоснования имеет исключительно историческую ценность и давно ушел в прошлое вместе с архаическим мифом и субъектным синкретизмом. Как бы не так! Частоты у передатчика, конечно, изменились, но сам трансцендентный механизм сборки поэтического субъекта никуда не делся, он оказался трансисторическим и все время показывает себя в самых разных обличьях.
Здесь я бы хотел обратиться к некоторым материалам [Транслит]: одному интервью, одному манифесту и одной статье. Первый материал — диалог с Джорджио Агамбеном [1]. В диалоге Агамбен говорит, что «лирический субъект не является субъектом» и «только идиот может сказать: Я автор этого стихотворения», что поэтическая субъективность может быть понята только негативно, только через десубъективацию, что через поэта всегда говорит другой субъект (например, муза в классической традиции или язык, как установила современная философия после «лингвистического поворота»), что «поэтическая субъективность начинается с этого необитаемого места, с того факта, что место автора пусто», невыразимо. Хочу обратить внимание, что совершенно справедливая мысль Агамбена о несубстанциальном характере поэтической субъективности, о том, что она должна «производиться каждый раз заново», что между жизнью и говорением есть разрыв и т. д., все же сопрягается у него именно с медиумической трактовкой поэтического опыта, его деперсонализацией. Хотя в некоторых своих ответах он все же употребляет термин «субъективация» и допускает, что поэзия — это «пространство производства субъективности». Интервьюеры все время спрашивают Агамбена о политическом потенциале подобного зазора между жизнью и говорением и о том, как многоголосье поэтического голоса способно влиять на людей, то есть, по сути, они спрашивают о политическом потенциале медиумичности поэтической речи.
Характерно, что общей интуицией и Агамбена, и его собеседников является признание маргинальности поэзии в современном мире потребления (вторая половина ХХ века) и утраты ею былого влияния, способности трансформировать другие субъективности (и надо сказать, общее убеждение у авторов [Транслит] состоит в том, что маргинализация поэзии в России произошла в постперестроечную эпоху, в 90-е годы). При этом маргинальность поэзии приравнивается к ее частному характеру (вспомним здесь стихотворение Александра Макарова-Кроткого 97-го г. «чистота жанра/частота жеста/честное слово/частное дело»).
Как же можно сочетать медиумичность поэтического опыта и его политический потенциал, как возможна демаргинализация поэзии и ее возвращение в область важнейшего антропогенного опыта? Читаем манифест Дмитрия Голынко-Вольфсона «Прикладная социальная поэзия: изобретение политического субъекта» [2], в котором он пишет, что поэзия тогда станет инструментом практического преобразования общества, тогда вернет себе настоящую действенность, когда откажется от романтического образа поэта-пророка, медиума сакрального голоса, а также откажется и от принципа эстетической автономии и иллюзии творческой независимости от противоборствующих социальных сил. В качестве альтернативы Голынко-Вольфсон предлагает новую форму медиумичности: «Прикладная социальная поэзия возникает в тот момент, когда поэт делегирует свой уникальный авторский голос той массе бесправных и угнетенных, которая лишена возможности высказаться в поле современной культурной индустрии. При этом поэт не только говорит от лица неимущих и отверженных, но и позволяет их сегрегированным и часто неуклюжим, неприятным на слух голосам звучать и передаваться через его строки, через саму политизированную форму его протестного высказывания» (мы видим четкую и удачную в силу талантливости автора реализацию этой платформы, например, в текстах Кети Чухров). Таким образом поэт перестает быть «голосом бытия» и становится медиумом классовых интересов, обнаруживается новая онтологически привилегированная территория — это социальное, понятое исключительно как пространство безостановочной классовой борьбы. Поэтический акт получает свою новую трансцендентную легитимность ровно настолько, насколько оказывается способен на трансляцию по-своему сакральных классовых чувств: рессентимента, тревог, травм, надежд и т. п.
II.
Хотелось бы выделить три типа поэтической субъективности.
1. Медиумичная поэтическая субъективность. Источник легитимности поэта-ретранслятора находится вовне, говорит собственно этот источник, он же наделяет поэтическую субъективность онтологическим статусом и преобразующим потенциалом. Источник этот есть специально выделенная и отчетливо очерченная территория, обладающая в глазах такой субъективности безусловной аксиологичностью, будь то Бог или социальный класс.
2. «Респонзивная» поэтическая субъективность (response — ответ, реакция, хотя термин этот не совсем удачный и носит здесь скорее «оперативный» характер [3]. Поэт откликается на «зов бытия», крови, класса и предлагает свое, чаще всего, прямое индивидуальное гражданское высказывание в качестве ответа на этот призыв. Замечу, что респонзивность поэтической субъективности амбивалентна, она может служить как
3. Ситуативная поэтическая субъективность, рождающаяся каждый раз заново на основе игры случайности и необходимости. Этот вид поэтического субъекта может быть описан на языке алеаторической необходимости, принцип которой «чем случайней, тем вернее», разумеется, речь здесь идет, прежде всего, о перформативной случайности, а не только о содержательной. Коррелятом такой ситуативной поэтической субъективности является экзистенциальное понятие фактичности. Фактичность предполагает диалектику случайности и необходимости, случайности, порождающей необходимость.
Ситуация, в которой возникает поэтическая субъективность, реализуется как опыт поимки себя на поэзии (известная некрасовская метафора, которую при желании можно вывести из мандельштамовского представления о «сырьевой самостоятельности поэтической речи» и создании ею своих орудий «на ходу»). Сборка поэтического субъекта тут исключительно имманентна, поскольку нет никаких внешних, специально для этого зарезервированных инстанций легитимации такой субъективности. Так, Лев Рубинштейн — пример достаточно рисковый, поскольку в его поэзии сплошь чужие голоса, так что может создаться впечатление медиумической поэтической субъективности. Айзенберг даже писал: «Концептуалист в известном смысле жертвует собой, то есть той авторской единственностью, единичностью. На месте одного автора оказывается множество авторов-персонажей, вместо одного личного языка — множество чужих языков», «истинный автор все слышит, но ничего не произносит. Все свои права он отдает другим голосам» [4].
Однако у Рубинштейна нет никакой лукавой этики самоотверженности в пользу чужого голоса, который заранее бы обладал ценностным и онтологическим первенством. Поэт обнаруживает, что язык поэтичен во всех своих коммуникативных возможностях, преломлениях и контекстах, и это обнаружение становится персональным методом — методом имманентного самопорождения поэтического субъекта. Поэт возникает в процессе этого обнаружения. Поэт здесь не медиум языка, но и не враг ему, скорее — близкий родственник, который навещает своего дядюшку, чтобы спасти его от него самого. Язык и тот, кто им пользуется, в этих посещениях вместе находят спасительное решение.
Ситуация — это не только речевая ситуация, это всегда жизненно-речевая или биографически-речевая ситуация, или фактичность. Случайностность ситуации выражена в биографической релевантности того, что случается с субъектом. Поймать себя на поэзии — значит как раз поймать себя на собственной фактичности, заново обнаружить свое «вот» в конкретной ситуации.
Опыт поимки себя на поэзии — отнюдь не простой опыт, его нельзя свести к везению или наитию. Конечно, он предполагает особый слух, но также и большую рефлексивную и негативную работу, в решающий момент делающую возможной позитивное опознание поэтического. Более того, это опознание, это заставание себя в области поэтического является другой стороной кондиционности опыта, проблематизации им своих условий. Рефлексия ничего не гарантирует, но она создает необходимые предпосылки для ситуативной сборки поэтической субъективности.
Может показаться, что ситуативный поэтический субъект — это такая монада, которая выясняет отношения сама с собой, игнорируя мир, и прежде всего — мир социальный. Отнюдь! Мы очень часто сегодня слышим упреки в приватности поэзии, в приватизации поэтического дела. Вот, например, Кирилл Медведев в статье «Пересмотреть результаты приватизации поэзии: новая парадигма ангажированности» [5] пишет, что нынешнее понимание литературы как частного дела, восходящее в отечественной традиции к неподцензурной поэзии середины 60-х годов, поддержанное авторитетом Бродского и ставшее господствующим в 90-е годы, на самом деле, то есть неосознанно для себя, является политическим, вполне ангажированным — за ним стоит либеральный капитализм. Медведев упрекает постандеграунд в абсолютизации деидеологизирующего свойства поэтического письма и отсутствии рефлексии своего места в мире социальных противоречий. В конце концов он призывает к плюральности поэтических позиций, с чем естественно, трудно спорить, тем более, что подобный вывод напрочь отменяет предыдущий критический пафос этой статьи. Потому что если есть эстетическая плюральность, то какой смысл предъявлять претензии? Однако основные положения Медведева все же нуждаются в коррекции, потому что они по-существу несправедливы.
Ситуативная поэтическая субъективность, имманентно рождающаяся в
III.
Итак, есть три типа поэтической субъективности. В каждой из них мы видим, как современный скальд произносит «чужую песню» как свою, но делает это на разный манер. И мы видим, что все три типа поэтического субъекта отличаются по своему самочувствию в условиях новых медиа.
Поэту-медиуму, поэту-транслятору, конечно, сложней всего, потому что не он, а медиа теперь транслирует чужие голоса, причем перманентно и неизбывно. Поэтому, чувствуя острую конкуренцию, он должен как-то устроится в новых медиа, приручить их, заставить работать на себя, заставить служить своей медиумичности.
Респонзивный поэтический субъект тоже должен использовать медиа для своего реактивного гражданского высказывания. Чтобы это высказывание было максимально действенным, а такая задача у него всегда имеется, поэтический опыт начинает скрещивать слово с другими, невербальными коммуникативными возможностями, о чем в своем время хорошо написал Александр Скидан в статье «Поэзия в эпоху тотальной коммуникации». Поэтическое слово, привыкшее к приватному книжному контакту с читателем, проигрывая на «рынке симультанного восприятия», в условиях «непрерывного церебрального шока» и возникновения «техногенной чувственности», ощутило свою неполноценность и начало новую аудиовизуальную и сценическую политику.
Наконец, для ситуативной поэтической субъективности новые медиа, конечно, не параллельны, но они для нее — не конкурент и не помощник, они здесь, скорее, расширение ситуативных возможностей, случайностей. Медиа — всего лишь новая языковая и перформативная среда, в которой возникают новые возможности для случайностной и необходимой сборки поэтического субъекта.
1. Агамбен Дж., Новиков Д., Пензин А., Скидан А. «Поэтический субъект должен каждый раз быть произведен заново — только для того, чтобы затем исчезнуть». Транслит, 2010. №8. С. 4–11.
2. Голынко-Вольфсон Д. Прикладная социальная поэзия: изобретение политического субъекта. Транслит, 2012. №10/11. С. 180–182.
3. Следуя респонзивной феноменологии Б. Вальденфельса и, в частности, проведенному им разведению онтологического (то есть неотчуждаемого, всегда имеющего место быть response), с одной стороны, и онтического answer, с другой, правильнее было бы, наверно, назвать данный тип поэтический субъективности ансвенсивным, но в силу неудобоворимости этого слова пришлось остановиться
4. Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. М.: Гендальф, 1997. С. 152-153.
5. Медведев К. Пересмотреть результаты приватизации поэзии: новая парадигма ангажированности. Транслит, 2012. №10/11. С. 162-171.
Комментарий редактора отдела критической теории [Транслит]:
Медийная субъективность получает у Лехциера примечательное определение:
Важно то, что это самообоснование поэтического субъекта как не
На самом деле это самообоснование «субъекта, говорящего важное» давно уже происходит имманентно — в чем и состоит отличие акта высказывания, совершаемого субъектом, которого традиционно называют секулярным — именно этому обстоятельству вся его секулярность и обязана. Но задерживаться на этом моменте не стоит — у реплики не одна целевая причина, и когда ход изложения меняет направление, выясняется, что ее собственное «важное» находится на другом уровне. Поначалу кажется будто все сводится к тому, чтобы уязвить серьезность трансцендентной позиции, которая при переходе к позиции реагирующей (в изложении она родная сестра первой) снимает маску, обнаруживая свой суетный характер.
Продолжить анализ текста позволяет то, что полемическая задача, поставленная его автором, еще очень далека от выполнения. Если бы реплика имела целью просто донести до читателя старую истину о том, что сакральное — это медийное, и что трансцендентное получает свое практическое воплощение в вечерних новостях, то обсуждать в ней было бы нечего. Все меняется, когда текст подходит к своему главному аргументу, притом что он не заявлен как главный и появляется неожиданно после затишья, которому предшествовал отпор, данный «респонзивности». Введенный с мнимой беззаботностью, маскируясь под отступление, не обладающее никакой ценностью, кроме уточняющей, аргумент открывает тему, о которой до этого речи не было.
Может показаться, что ситуативный поэтический субъект — это такая монада, которая выясняет отношения сама с собой, игнорируя мир, и прежде всего, мир социальный. Отнюдь!
Вплоть до этого заявления еще могло казаться, будто вопрос заключается в беспристрастном перечислении т.н. «типов поэтической субъективности» — другими словами, что целью является простая классификация. Именно на беспристрастность текст и претендует — не случайно уточнение появляется вслед за тем, как классификация приобрела открыто пронумерованный характер. Но в этот момент неопровержимо выясняется, что вопрос, являющийся скрытым источником полемического движения — это вопрос поэтической автономии, и что весь текст носит, по существу, защитный характер. То, что берется в нем под защиту — это третий пункт, где «бытие в поэзии» достигает вершины в праве поэзии на «необходимую случайность». То, что охраняется в этом пункте с особой тщательностью — это неповинность той ситуации, в которой т.н. «необходимая случайность» может принести плоды. Интересно, что никем не обязываемый, безо всякого внешнего принуждения Лехциер называет эту ситуацию «приватной» — с этого момента и возникает необходимость в оправдании.
Приватный мир историчен и интерсубъективен, — в своем частном пространстве, даже в момент «домашнего музицирования» человек проживает разные формы человеческой совместности, которая отражается в нем, как в микрокосме.
Именно здесь находится болезненный пункт, в котором расположена авторская позиция и к которому вся реплика целиком тяготеет. Притом — оттого и необходим на нее отзыв — основная тяжесть ее программных последствий по отношению к этому пункту все же оказывается смещена. Так, следуя курсом, на который сам себя же и обрек, автор чрезвычайно озабочен тем, чтобы приватное не оказалось смешано с беспринципным индивидуализмом. Но то, что действительно привлекает в его аргументации внимание — это крайне некритичное задействование понятие «общности», скрытой за академическим эвфемизмом «человеческой совместности».
За «человеческой совместностью» — по ряду причин это в особенности касается философии — уже более века тянется шлейф надежд и предубеждений. Достаточно назвать два из них: дотеоретическое чаяние, что всякая Gemeinschaft по природе предполагает Mitsein, и старомодная уверенность в существовании системы регуляции, предусматривающей совпадение в доступном субъекту мире «смысла» и «значимости». Так или иначе, в безоговорочном доверии к концепту «общности» и кроется источник той либеральности, которой целиком пропитан текст и которая накладывает печать не только на содержащуюся в нем аргументацию, но и на характер теоретизирования, поскольку это как раз тот самый случай, когда политическое в ходе мысли неотличимо от методологического.
Именно в этом пункте, кстати, оказывается недостаточной критика Кирилла Медведева, специально приведенная Лехциером для опровержения:
Кирилл Медведев <…> пишет, что нынешнее понимание литературы как частного дела, восходящее в отечественной традиции к неподцензурной поэзии середины 60-х годов, поддержанное авторитетом Бродского и ставшее господствующим в 90-е годы, на самом деле, то есть неосознанно для себя, является политическим, вполне ангажированным — за ним стоит либеральный капитализм.
Особенностью «либерального» — дополнять его термином «капитализм» нет никакого особого смысла — образа мысли является вовсе не понятие «частного». В противном случае его опровержение давалось бы слишком легко; так, автору статьи всего в один шаг удается отвести тяжесть обвинений, усовершенствовав концепт приватного с помощью благотворного покровительства «интерсубъективности». При этом то, что делает либеральный характер суждения таким цепким и в то же время неопознаваемым, совместимым с любым общим политическим местом — это как раз понятие «общности» во всей его могущественной нейтральности. Взятая как нечто само собой разумеющееся, во всей своей мнимой очевидности, общность делает любое высказывание целым.
Соответственно, то, что находится у автора под подозрением — это типы высказываний, которые иначе обращаются с чаемой ими перспективой универсальности — на деле не совпадающей с «всеобщностью», взлелеянной в традиции историзма. Не имеет значения, что два с чисто полемическими целями описанные в статье персонажа (забавно, но это все те же «поэт и гражданин») не существуют в приданном им карикатурном виде, поскольку являются «теоретическим мифом» — мифом дискуссий, прямым последствием которых является всплеск исследовательской литературы, откуда он после возвращается к публике в статусе уже не мифа, а банальности. В любом случае абсолютная ирреальность этих типов для понимания текста не имеет никакого значения, поскольку появляются они в нем не как историческая истина, а как прямое, хотя и замаскированное, указание на то, чего не может вынести либеральное отношение к вопросу общности. Нестерпимым для него является то, что общность не предзадана и не в состоянии выступить опорой для обоснования значимости — что у нее, другими словами, нет никакого исторического алиби.
Именно этому моменту обязана очень умеренно заглушаемая в тексте неприязнь Лехциера к другим «типам субъективности», для которых это отсутствие выступает в роли причины того, что они делают, высказываясь, например, от лица, чье место в происходящем определить невозможно, во имя тех, кто в ходе этого высказывания рискует утратить свое существование. Дело вовсе не в том, что кто-то присваивает право вещания за других. Все дискуссии о «прямой речи угнетенного», какие бы их отголоски здесь ни слышались, на деле не имеют никакого значения. Решающим является то, что для либерального образа мысли «общность» может быть только естественной. Для нее не существует возможности помыслить перспективу, которая оставила доверие к естественноcти общности в прошлом.
Дискуссионная ситуация здесь показательно выворачивается наизнанку. Так, аргумент, на котором автор строит свое опровержение «мифа о поэте как медиуме» — это аргумент «устаревания».
Мне всегда казалось, что этот трансцендентный жест самообоснования имеет исключительно историческую ценность и давно ушел в прошлое вместе с архаическим мифом и субъектным синкретизмом.
Не комментируя стилистический дух этого отрывка, выдающий влияние недавнего периода самоутверждения академической школы, сегодня утрачивающей языковое единство (в
…сам трансцендентный механизм сборки поэтического субъекта никуда не делся, он оказался трансисторическим.
Ничего «трансисторического», разумеется, не существует1, равно как — возвращаясь к цитате выше — не бывает никаких «естественных устареваний». Представление о «естественности» утраты публичного интереса, схождения некоторых вопросов со сцены или доведения их до невменяемо заболтанного состояния является способом забыть о том, насколько невразумительны чаще всего бывают предлагаемые иногда конкретные объяснения на этот счет. Но в данном счете имеет место непонимание автором следствий, на которые его обрекает собственная критика. Странным образом в этой критике то, что еще даже не получило сегодня эстетического определения, объявлено «устаревшим», тогда как прибежище политического мифа подвергается оправданию, характер которого только усиливает проливаемый им на поэтическую ситуацию ложный свет.
Александр Смулянский
1. Нет нужды подчеркивать, насколько предательскую роль аргумент «трансисторизма» может сыграть для самого либерального дискуссионного круга, в политической перспективе которого целый ряд «явлений и феноменов» — общество, речь, родственные отношения, чувство собственности — систематически предстает как лишенный какого бы то ни было исторического качества.
#12 [Транслит]: Очарование клише
