Lana del Rey и конец света

Отделима ли синтетическая и малоуловимая Лана дэль Рей от своей музыки? Леди Гага отвлекается на большие отступления во время концертов, иногда они выглядят даже как проповеди. Логично было бы видеть Лану также взывающую со сцены к противоположным (со стороны Гаги) вещам — почитанию авторитетов, милитаризму, закрепощению. Но она не выступает с речами, вместо нее говорят ее музыка и песни. И, как и любой большой художник, в больше всего она проговаривается в своем творчестве.
Большой художник отличается от не очень большого тем, что его вопросы и творческие задачи совпадают с вопросами и задачами времени.

Вышедший две недели назад новый альбом Ланы дель Рей — это такое своего рода портфолио из разнообразных вопросов нашего времени.
Раньше казалось, что формулу популярности Ланы описать довольно просто: она извлекает трогательные и при этом связанные с эпическим чувства путем соединения поэтики «у нас было великое прошлое» с американской эстетикой вечеринок на заднем дворе с барбекю, бассейном и американской южной готикой. У всего этого по отдельности есть свои герои, а так чтобы в едином потоке — это интересно и захватывает. Также считается, что Лана дэль Рей оседлала тему тоски по прошлому богемной буржуазии, хипстеров, которые заполняют пустоту снаружи и внутри ностальгией по времени в котором никогда не жили (здесь: 50-е и 60-е). И вроде бы все так: ранняя Лана была одновременно и Мэрилин и Жаклин, We“re gonna party like it”s 1949,
Elvis where are you when I need you most?
Она идеально вливалась в консервативную дискуссию, и во все так называемое подчинение мужскому, даже в самых экстремальных проявлениях (You can be my daddy, i just can’t resisthe tells me to shut up).
В творчестве Ланы дэль Рей есть гораздо более глубокий пласт. Конечно, проговаривается она не только в содержании своих великолепных произведений. Гораздо больше нам говорит их форма. Лана дэль Рей демонстрирует заслуживающей восхищения верность трехчастной песенной структуре.
Это сейчас будет немного резкий переход, но все трехчастное в современной культуре восходит к Гегелю. Конечно, и до этого все было, но Гегелю удалось создать основу, которая позволяет игнорировать все диалектическое до него. Вот что я имею ввиду и вот как это связано с Ланой:
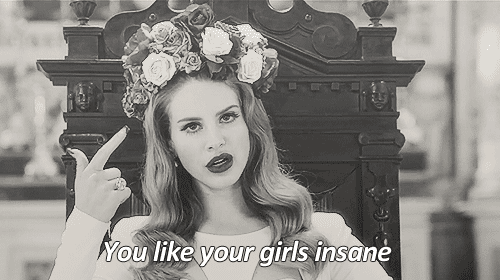
Часто описывается момент, когда Гегель выглянул на улицу из окна в своем доме в Йене и увидел Наполеона на коне во главе своей армии. Этот момент стал для Гегеля реализацией Наполеоном в истории того, что сам Гегель реализовал в своей философии — Наполеон реализовывал дух истории и творил ее суть как он, Гегель, стремился творить суть философии.
Спустя 60 лет Маркс (который, кажется, и по сей день остается главным гегельянем) так говорил о своей миссии: «Я творю суть истории и воздаю каждому должное» («Воспоминания о Марксе и Энгельсе», М., 1956, стр. 70).
Гегельянство проявляет себя так: субъективность Я философа манифестирует объективность. У Гегеля объективность Духа, а у Маркса — материальной истории. Дело в том, что в обоих случаях эта философия осознает себя как последняя, это конец философии и одновременно ее триумф.
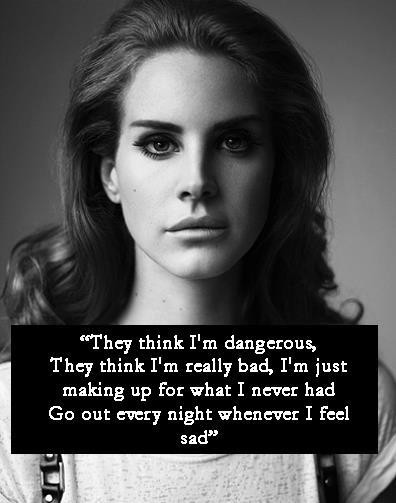
В нынешние времена Марксизм возвращается из 20-го века обратно в свой 19-й. Этот отлив обнажил нам фигуру Александра Кожева, французского философа русского происхождения, политика, одного из создателей того, что мы сегодня называем «Евросоюз». Кожев в 1933-39 гг читал в Париже «Введение в философию Гегеля» — ставший легендарным лекционный курс, на котором , по выражению Раймона Арона, были все, кроме Сартра (хотя и Сартр прекрасно демонстрирует эти же, гегельянские, идеи). Именно это я и имел ввиду выше говоря о повсеместном распространении гегельянства. Мы видим, что Кожев заразил им целое поколение французских интеллектуалов.
Почему Кожев так долго был в тени? Как так получилось, что внимательно прочитавший Кожева Фрэнсис Фукуяма стал значительно популярнее его просто пересказывая кожевские идеи? Дело в том, что в философском сезоне 30-х и далее гегельянство существовало в форме марксизма — марксизм затмил кожевское прочтение Гегеля (что, впрочем, не помешало ему воспитать всю французскую философскую элиту). Даже сам Кожев отчасти, конечно, осознавая это, после войны отказался от философии в пользу политики.

Кожев проделал трюк, который продолжает определять направление мышления до сих пор. В юности он увлекался философией Владимира Соловьева (о котором он писал диссертацию в Гейдельбергском университете у Карла Ясперса). Генеральной идеей Соловьева Кожев полагал необходимость конца света. В этом соловьевском учении о конце мира и антихристе Кожев вычитал идею о том, что Конец мира наступит все равно, вне зависимости от желаний и направлений действий людей.
Таким образом, гегелевский конец философии прочитан Кожевым как конец истории. Так как история (по Гегелю) — процесс реализации духа, который постигает себя (1) в философии через философа, (2) в собственно истории, то есть развитии форм человеческого существования. Все развитие заканчивается когда появляется универсальная форма. Гегель увидел это в Наполеоне и его кодексе. Гегель мыслил себя как последнего философа, а Наполеона как последний истинно исторический шаг. Остальное — доработка и повторение феноменов пост-исторической действительности. Лекции Кожева о Гегеле как раз являют собой пример раннего после-исторического мышления.
Философия (как и история) предполагает различия форм мышления, а история — различие форм культурной, экономической и политической жизни. Когда эти различия снимаются и приходят к единому, то на этом кончается и философия, и история.
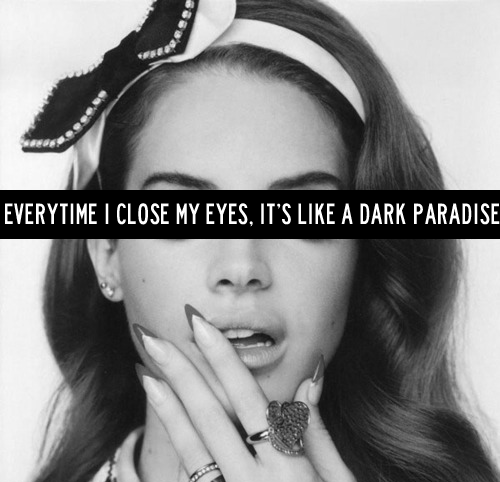
С этим можно не соглашаться — и это очень легко делать. Александр Пятигорский в своих лекциях напоминает, что любая концепция последовательного детерминизма именно такова: она берет феномены действительности и описывает их своими герметичными терминами. Однако, продолжает Пятигорский, слабость этих концепции в том, что они не способны выйти за свои собственные границы. Например, все философы «постфилосософии и постистории» предлагают каждый свою форму устройства (от ограниченной монархии до республиканской демократии), но все они сходятся в том, что человечество (почему-то!) не обойдется без идеи государства.
Эта идея, что идеальная форма политической власти переживет историю, справедливо и для музыки и находит свое отражение в том, чем занимается Лана дэль Рей. Конечно, не поклонение трехчастной структуре вписывает ее в историю (серьезно, посмотрите, она просто помешана на тройственности — даже в тех редких ранних песнях где нет трехчастной структуры, она повторяет фразы по три раза).
Ее новый альбом больше похож на «Born To Die», чем на «Ultraviolence» и в нем по-прежнему прослеживаются влияния из «большой» музыки 50-х, 60-х и так далее. Взгляд назад, обращенность в прошлое — вот что отличает пост-историческую культуру.

Еще в свежем альбоме прослеживается новое жуткое страшное предсказание. Лана больше не грустит по ушедшему «рейгановскому настроению», теперь она точно знает как произойдет конец света. Точнее, как он произошел раньше, происходил всякий раз. Это тема насилия, которая всегда была у нее, но теперь это проявленное еще в клипе «High By The Beach» институцианализированное насилие. Это война. Песни стали печальнее. В (наверное) заглавной песне этого альбома «Music To Watch Boys To» лирическая героиня смотрит на мальчика (I play my music, watch you leave), кажется, что она просто смотрит как он уходит, но они все уходят (Putting on my music while I’m watching the boys). Если не на войну, то почему такая эпическая печаль, зачем милитаристские национальные символы? Почему так явственно слышится марш?
I’ve been sent to destroy, yeah
Ее музыка рассыпается наподобие мира, к которому она принадлежит — миру после Второй мировой. И песни ее печальные потому что она знает что мир закончился.
Поэтому песни из нового альбома так похожи на русские романсы. Тоже зачастую милитаристские, тоже написанные людьми на краю рушащегося мира, который просачивается сквозь пальцы если пытаться его задержать.
Мир каким мы его знаем, имеет конец. Но история, философия и музыка заканчиваются до его конца.

