Вальтер Беньямин. Оскудение опыта
В мае в рамках издательского проекта «Панглосс» (Рипол-Классик) выходит сборник эссе Вальтера Беньямина под названием «Девять работ».
Представляем оттуда текст «Оскудение опыта», впервые опубликованный в 1933 году в пражском немецкоязычном издании Die Welt im Wort. В нем уже достаточно ясно ощущается радикализация осмысления драматических исторических событий двадцатого века. К власти в Германии пришли нацисты, и Беньямин вынужден эмигрировать. Однако новая реальность, при всех опасностях, о которых предупреждает Беньямин, не закрывает для него необходимость осмысления глубинных исторических сдвигов: ему нужна не «мелкая монета актуальности», а более принципиальное понимание человеческой истории. Именно над этим он упорно работает в эмиграции, и это нашло отражение в его последних трудах.

Оскудение опыта
В школьных книгах для чтения была история о старике, который перед смертью поведал сыновьям, что у него на винограднике закопан клад. Надо только поискать. Они изрыли всё, но ничего не нашли. А когда пришла осень, урожай оказался лучше, чем во всей округе. Тут они поняли, что отец передал им житейскую мудрость: не в золоте секрет благополучия, а в усердном труде [1]. Такого рода житейские мудрости нам предъявляли, пока мы росли, то сурово одёргивая, то успокаивая: «молод ещё о таких вещах судить», «поживёшь — сам узнаешь». И было точно известно, что такое опыт: его старшие передавали младшим. В краткой форме пословиц, с авторитетом человека искушённого; пространно и словоохотливо в рассказах; порой это была история, принесённая из дальних стран и рассказанная у камина перед сыновьями и внуками. — Куда всё это кануло? Где найти человека, умеющего рассказать порядочную историю? Где эти люди, оставляющие на смертном одре завет, который будут передавать из поколения в поколение как фамильную драгоценность? Кому сегодня пословица приходит вовремя на помощь? И кому сегодня взбредёт в голову попытаться справиться с молодыми людьми, ссылаясь на свой опыт?
Нет, ясно во всяком случае: опыт упал в цене и это касается поколения, которое в 1914-1918 годах прошло одно из страшнейших испытаний мировой истории. Возможно, это не так странно, как
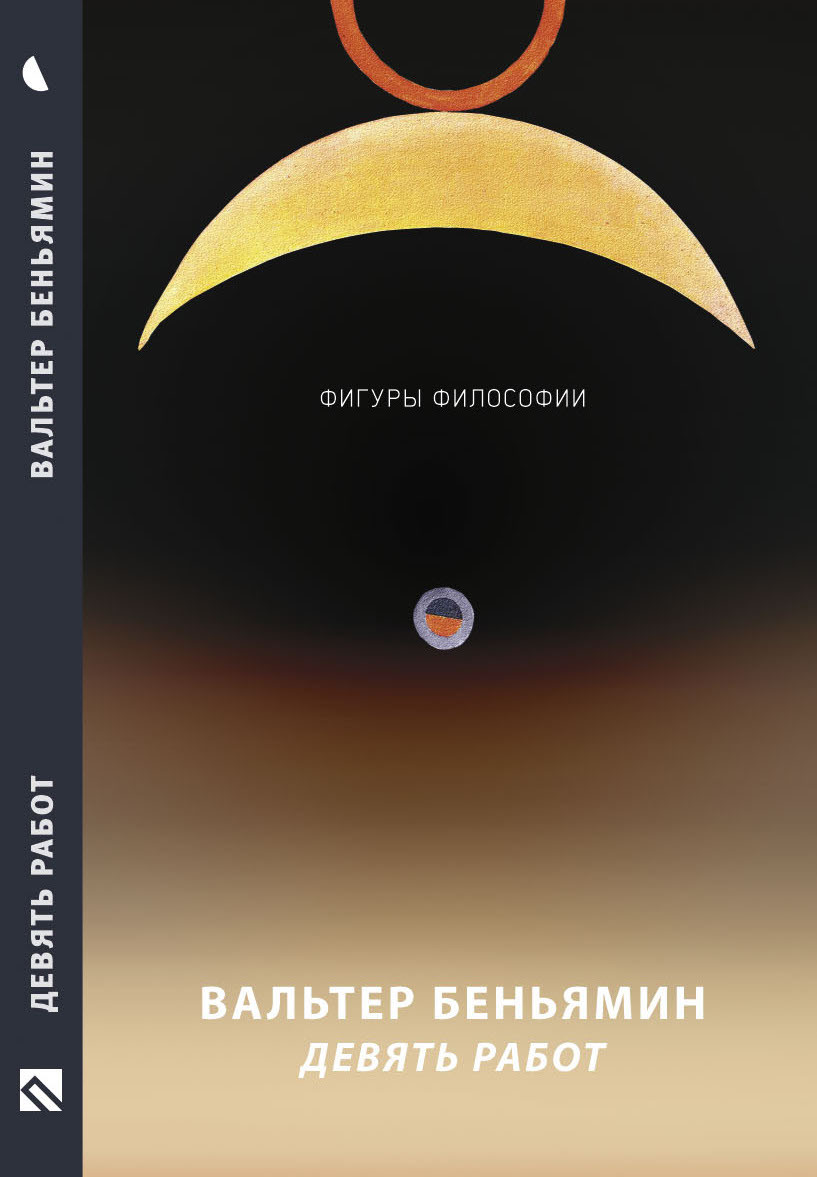
Это невообразимое развитие техники обрушило на людей совершенно новое оскудение. А обратной стороной этого оскудения стало гнетущее изобилие идей, которое пришло к людям — или скорее навалилось на них — с возрождением астрологии и йогических мудростей, христианской науки и хиромантии, вегетарианства и гностицизма, схоластики и спиритизма. Потому что при этом происходит не подлинное возрождение, а гальванизация. Невольно вспоминаются великолепные картины Энсора [2], на которых улицы больших городов заполняет всякая нечисть: горожане в карнавальных одеяниях, мертвенно-белые уродливые маски, увенчанные мишурой — всё это плывёт нескончаемым потоком. Эти картины возможно не что иное как отображение того жутковатого и хаотического ренессанса, на который так многие возлагают надежды. Однако тут самым ясным образом проявилось, что наша бедность опытом — лишь часть великой бедности, которая вновь обрела лицо, такое же чёткое и определённое, как лицо нищего в Средние века. Ибо какой прок от культурных ценностей, если нас не связывает с ними никакой опыт? Что случается, когда они оборачиваются лицемерием и плутовством, слишком ясно продемонстрировала ужасающая мешанина стилей и мировоззрений в прошедшем столетии, так что нам не остаётся ничего иного, как согласиться, что наша бедность опытом — дело достойное. Давайте же признаемся: эта бедность касается не только частного опыта, это бедность человеческого опыта вообще. А тем самым и своего рода новое варварство.
Человечество готовится пережить, если придётся, культуру. И что самое главное, оно делает это со смехом
Варварство? Совершенно верно. Мы произносим это, вводя в оборот новое, позитивное понятие варварства. К чему приводит варвара бедность опытом? К тому, чтобы начинать с начала, начинать заново, обходиться самым малым, строить обходясь немногим, не оглядываясь по сторонам. Среди великих творцов всегда были непримиримые, которые всегда перво-наперво отбрасывали всё бывшее до них. Им нужна была та самая чистая доска, чертёжная доска, потому что они были конструкторами. Таким конструктором был Декарт, который для первого шага в своей философии не нуждался ни в чём кроме одного положения, в котором был уверен: «Я мыслю, следовательно я существую», — от него он и двигался далее. Эйнштейн тоже был таким конструктором, которому вдруг из всего обширного мира физики оказалось интересным одно-единственное несоответствие между уравнениями Ньютона и опытными данными астрономии. Таким же стремление начать всё с начала руководствовались и художники, когда они, следуя за математиками, начали строить мир из стереометрических элементов, как это сделали кубисты, или когда стали действовать подобно инженерам, как Клее [3]. Фигуры Клее словно собраны на чертёжной доске, и подчиняются они — как в хорошем автомобиле кузов отвечает прежде всего потребностям мотора — в выражении лиц внутреннему устройству. Именно скорее внутреннему движению, чем движениям души, отсюда и их варварство.

Там и тут уже появились даровитые люди, чьё творчество включилось в это движение. Их отличает полный отказ от иллюзий относительно нашей эпохи и в то же время категорическое признание её своей. Это в равной степени относится и к поэту Берту Брехту, который констатирует, что коммунизм — это справедливое распределение не богатства, а бедности, и к предтече новой архитектуры Адольфу Лоосу [4], который заявляет: «Я пишу только для тех, кто обладает восприятием современного человека… Для тех, кто исходит томлением по Ренессансу или рококо, я не пишу». Такой многослойный художник как Пауль Клее, и такой программный как Лоос — оба они отворачиваются от освящённого традицией, торжественного, благородного, осыпанного всеми дарами прошлого образа человека, чтобы обратиться к нагому современнику, который крича словно новорождённый обретается в грязных пелёнках современности. Никто не приветствовал его с большей радостью и большим весельем, чем Пауль Шеербарт [5]. Он написал романы, которые на первый взгляд напоминают написанное Жюлем Верном, однако коренное отличие от Верна, у которого в самых замечательных технических новинках, проносящихся в мировом пространстве, сидят всё те же мелкие французские или английские раньте, Шеербарта интересует вопрос, в каких таких замечательных и симпатичных существ превращают прежних людей наши телескопы, самолёты и ракеты. Между прочим, и говорят эти существа уже на совершенно новом языке. Решающее отличие этого языка — ориентация на произвольную конструктивность, а не на органичность. Это невозможно не заметить в языке человека у Шеербарта — вернее в языке его существ, поскольку человечность — это основоположение гуманизма — они отвергают. Даже в своих именах: Пека, Лабу, Софанти и тому подобным образом именуются персонажи книги, которая названа по имени главного героя — Лезабендио. Русские тоже склонны давать детям «расчеловеченные» имена, называя их Октябрём по месяцу революции, или Пятилетка по соответствующему плану, или Авиахим по обществу в поддержку авиации. Это не техническое обновление языка, а его мобилизация в целях борьбы или труда; в любом случае ради изменения действительности, а не её описания.
Однако Шеербарт, раз уж о нём зашла речь, придаёт чрезвычайную значимость тому, чтобы разместить своих персонажей — а по их образцу и своих сограждан — в соответствующих жилищах: в трансформируемых передвижных стеклянных домах, таких, которые уже представили Лоос и Ле Корбюзье. Не даром стекло такой твёрдый и гладкий материал, к которому не прицепиться. К тому же холодный и безразличный. У стеклянных вещей нет «ауры». Стекло вообще враг таинственности. И ещё оно враг обладания. Великий поэт Андре Жид сказал как-то: любая вещь, которая вызывает у меня желание обладать ею, становится для меня непрозрачной. Так может быть те, кто подобно Шеербарту грезят о стеклянных домах, грезят именно потому, что они адепты новой бедности? Однако сравнение здесь быть может скажет больше, чем теория. Посетителю бюргерской квартиры 80-х годов не отделаться, помимо «уютности», которую она источает, от основного ощущения: «ты здесь ничего не потерял». Всё здесь не твоё — потому что не найдётся ничего, на чём бы хозяин не оставил свою отметину: безделушками на полочках, чехлами на мягкой мебели, занавесками на окнах, каминным экраном перед огнём. Замечательные слова Брехта здесь в помощь, и очень в помощь: «Сотри следы!», это рефрен из первого стихотворения в его сборнике «Хрестоматия для жителей городов» [6]. Здесь же, в бюргерской квартире, привычным стало прямо противоположное поведение. И наоборот, сам «интерьер» понуждает обитателя в высшей степени следовать привычкам, привычкам, более соответствующим интерьеру, в котором он обитает, нежели ему самому. Это известно каждому, кто ещё застал абсурдное состояние, в которое впадали обитатели таких плюшевых покоев, если что-то в привычном распорядке нарушалось. Даже их манера сердиться — а этот аффект, постепенно уходящий, они могли разыгрывать мастерски — был прежде всего реакцией человека, «след дней земных» [7] которого стёрт. Это и осуществили Шеербарт своим стеклом и Баухаус — стальными конструкциями: они создали помещения, в которых трудно оставить следы. «Согласно сказанному, — заявил Шеербарт добрых двадцать лет назад, — можно говорить о «стеклянной культуре». Новая стеклянная среда полностью преобразит человека. И остаётся только пожелать, что у этой новой стеклянной культуры не окажется слишком много противников».
Существование Микки Мауса как раз и есть сон современного человека
Бедность опытом: это не следует понимать так, будто люди жаждут нового опыта. Напротив, они желают избавления от опыта, они жаждут такой среды обитания, в которой они свою бедность, внешнюю, а в конечном итоге также и внутреннюю, смогли бы реализовать в таком чистом и ясном виде, чтобы это вылилось в нечто достойное. К тому же они не всегда несведущи или неопытны. Часто можно утверждать обратное: они «отведали» всего этого, и «культуры», и «человеческого существа», пресытились этим и утомились. Никто иной не чувствует себя так точно охарактеризованными словами Шеербарта: «Вы все так утомлены — а всё только потому, что не сконцентрировали все ваши мысли на одном совершенно простом, но совершенно великолепном плане». За усталостью следует сон, и не редкость, когда сновидение оказывается компенсацией дневной печали и меланхолии, представляя реализованным то самое совершенно простое, но совершенно великолепное существование, на что в бодрствующем состоянии сил нет. Существование Микки Мауса как раз и есть такой сон современного человека. Его реальность полна чудес, которые не только превосходят чудеса техники, но и издеваются над ними. Ведь самое примечательное в них то, что возникают они без всяких технических устройств, в порядке импровизации, из самого Микки Мауса, из его друзей и недругов, из чего угодно: самой обычной обстановки, из дерева, облаков или моря. Природа и техника, примитивизм и комфорт совершенно слились воедино, а в глазах людей, уставших от бесконечных бытовых проблем и угадывающих смысл жизни лишь как самую дальнюю точку схождения в бездонной перспективе средств, кажется избавлением такое бытие, которое в каждой из ситуаций оказывается самодостаточным самым простым и удобным образом, в котором автомобиль не тяжелее соломенной шляпы и плод на дереве округляется с такой же скоростью, как надуваемый воздушный шар. А теперь вернёмся к нашим заботам.
Мы оскудели. Часть за частью мы расстаёмся с наследием человечества, нередко оставляя очередное за сотую долю стоимости в ломбарде, чтобы получить взамен мелкую монету «актуального». В дверях стоит экономический кризис, за ним тенью война. Опорой ныне способны быть только немногие могущественные, которые ей богу никак не человечнее большинства, скорее действуют более варварски, но не в лучшем смысле слова. Прочим же остаётся устраиваться заново, свыкаться с тем немногим, что есть. В помощь им люди, которые выбрали своим делом начать всё с нуля, опираясь на интуицию и самоотречение. В их постройках, картинах и историях человечество готовится пережить, если придётся, культуру. И что самое главное, оно делает это со смехом. Возможно смех этот временами звучит варварски. Пусть так. Только бы порой некоторые из них передавали частичку человечности той массе, которая вернёт её однажды с процентами.

Примечания
[1] Сюжет, восходящий к античной басне.
[2] Джеймс Энсор (1860-1949) — бельгийский художник, создатель гротескных фигур и причудливых, резких образов, его наиболее известная картина — «Въезд Христа в Брюссель в 1889 году».
[3] Пауль Клее (1879-1940) — швейцарский художник, которого Беньямин очень ценил. Долгое время он владел его работой «Angelus Novus», об этом изображении см. далее в тезисах «О понятии истории».
[4] Адольф Лоос (также Лоз, 1870-1933) — австрийский архитектор-новатор, один из первых теоретиков архитектурного модернизма, оказавший серьёзное влияние на развитие архитектуры в двадцатом веке.
[5] Пауль Шеербарт (1863-1915) — немецкий поэт, писатель. художник. Предтеча поэтического модернизма и научной фантастики двадцатого века. Беньямин часто обращается к фантастическим сюжетам Шеербарта, особенно важной ему представлялась «Стеклянная архитектура» Шеербарта, попытка через новые материалы в архитектуры определить черты общества будущего.
[6] «Из хрестоматии для жителей городов» (первая публикация — 1930), в переводе С. Третьякова — «Не оставляй следов».
[7] Беньямин отсылает к знаменитому монологу Фауста из второй части трагедии:
Тогда бы мог воскликнуть я: "Мгновенье!
О как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они".
(Пер. Б. Пастернака)