Софья Кропоткина. Полярная елочка
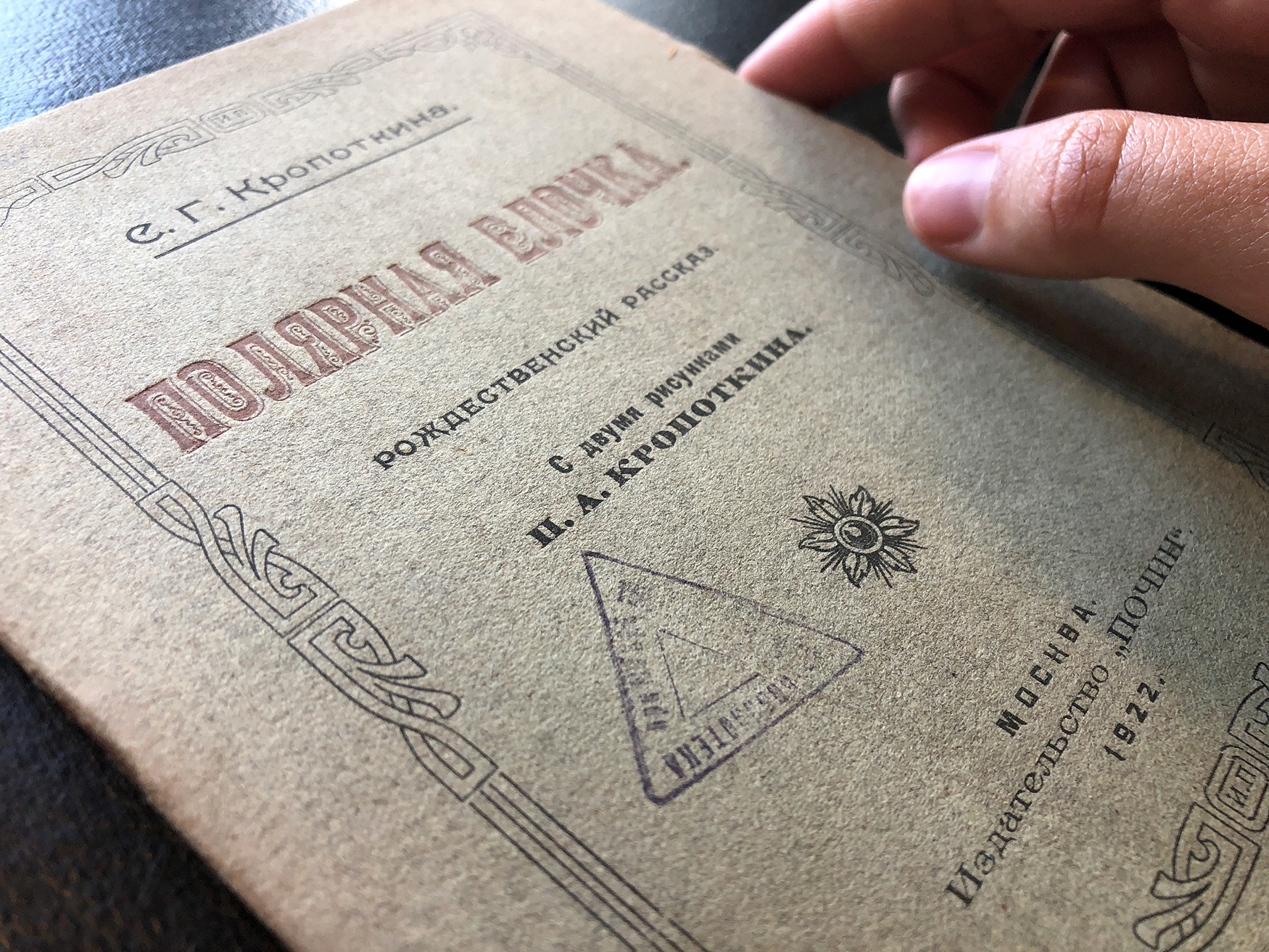
Рождественский рассказ
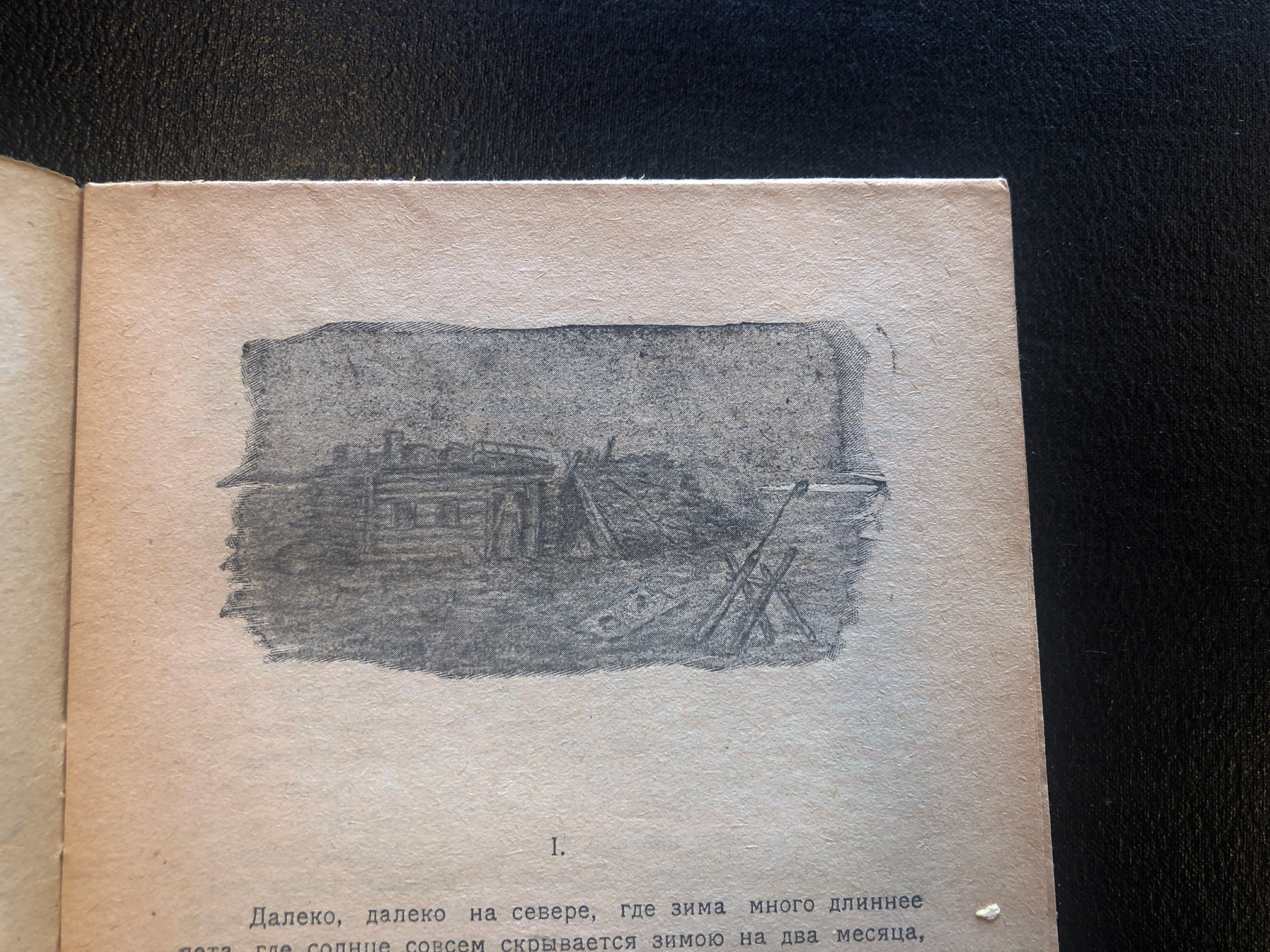
1.
Далеко, далеко на севере, где зима много длиннее лета, где солнце совсем скрывается зимою на два месяца, а летом два месяца не садится, где диких зверей больше, чем людей, где нет ни городов, ни даже деревень, — в этом мрачном краю, недалеко от большой реки, которая летом оттаивала только на несколько недель, поотдаль от небольшой кучки якутских юрт, стояли две избушки.
Обе оне как-то странно, не по плотницки были срублены из тонких, корявых лесин, принесенных рекой во время половодья, и тесно прижались оне друг к другу, чтобы лучше устоять под напором ветра и дружнее бороться с трескучими морозами.
Одна избушка, в два окна, была гораздо больше другой. Возле нея были пристроены какие-то клетушки. В самой избушке была только одна комната, и неровные ея стены зимой покрывались обледенелым инеем; на окнах же, вместо стекла, натянута была брюшина. Зимой окна также покрывались толстым слоем инея, и в комнате всегда был полумрак.
Битая из глины русская печь занимала чуть не половину избы и сложена была она также неумело, как сама изба. За неимением вьюке, труба закрывалась со двора, и для этого надо было всякий раз лазить на крышу.
Обстановка в избушке была на крестьянский лад. Вдоль стен стояли некрашеные скамейки и перед ними — такой же стол. Но рядом с этим были признаки просвещения. Имелась полочка с книгами, другая со словарями разных языков; а часть комнаты отделялась занавеской, и
Два года тому назад, в это гиблое место, был привезен политический ссыльный, доктор Григорий Савельевич Бекреньев; а вслед за ним скоро прибыла его жена, Лидия Андреевна с тремя детьми: девочкой двенадцати лет, Наташей, мальчиком десяти лет, Костей, и другим мальчиком, четырех лет: его звали Колей.
Жили они тут уже второй год. Первый год они прожили одни и ветер иной раз так шатал их избушку, что вот-вот совсем снесет. Но потом привезли сюда другого политического ссыльного, непокорного кавказца, и тогда приросла к избушке та другая, меньшая. И стало легче Бекреньевской избушке бороться с непогодой, а самой семье Бекреньевых легче стало переживать разные невзгоды. Дети, в особенности, полюбили кавказца. ‘Дядя Алек’ сделался для них источником многих радостей.
Был канун Рождества. Уже больше месяца солнце не всходило. Холода стояли жестокие, и в избе у Бекреньевых сильно страдали от холода. Дети, закутанные во все теплое, что только имелось у матери, сидели за печкой, и Наташа рассказывала братьям, как в России празднуют Рождество.
—Ты, Костя, был маленький, — говорила она,—не помнишь, какая у нас бывала елка. Всегда в сочельник бывала елка, еще когда папу в тюрьму не посадили.
—Ан помню,—утверждал Костя.
—А ну, расскажи, какая!
Костя путался и не мог вспомнить.
—Ну вот, видишь; ты не можешь помнить, ты тогда был совсем маленький, еще меньше Коли.
—Я не очень маленький, я тоже помню, —сказал Коля,
—Ну не…—она хотела сказать: ‘не ври’, но сдержалась, так как мать запрещала им употреблять такие слова.
—Не перебивайте, а то не стану рассказывать, —пригрозила им Наташа.
Дальнейший рассказ Наташи, об их последней елке в Петербурге, сильно возбудил всех троих, и в особенности самою Наташу. Она даже забыла., что им запрещалось беспокоить отца, когда он сидел за своими переводами.
—Папа, —говорила она, выглядывая
И, опять юркнув за печку, она возбужденно продолжала рассказывать детям.
—Вся елочка была увешана золотыми орешками, яблочками, такими маленькими, красненькими, вкусными, вкусными! Апельсины, коробки с конфетами… А сколько было разных игрушек! Мне досталась кукла с настоящими волосами, и тут как надавишь, —она надавила у маленького Коли под ложечкой, —она и скажет: ‘Папа’, ‘Мама;. А ты, Костя, получил поезд, целых десять вагонов, и паровоз. Только ты его сейчас же сломал.
—Я не ломал, он сам сломался, —возразил Костя.
Наташа опять хотела сказам: ‘не ври’, но промолчала.
—А я что получил? —спросил Коля.
—Тебя еще тогда совсем не было.
—Нет, был, нет, был, —возразил Коля, и он расплакался от этой обиды, что его не было.
—Ну, хорошо, хорошо, —сказала Наташа и, посадив его к себе на колени, она продолжала.
—Приехали к нам гости: тетя Катя и Володя, и Лиза, наши двоюродные брат и сестра, и многих других детей было. Елку поставили в столовую.
—А что такое столовая?—спросил Костя.
—Это комната, где мы обедали, пили чай.
—Почему у нас теперь нет столовой?
—Ну вот, опять перебил; не буду больше рассказывать.—И она вышла
—Папа, нарисуй яблочки и апельсины, и золотые орешки; я хочу видеть, какие они ’’ — тормошил его Костя и Коля ему вторил.
—Маму попросите; она лучше меня нарисует,—отбивался от них отец.
—Маме некогда, она стряпает.
—Идите сюда, буду рисовать, — звала их Наташа.
—Ты не умеешь. Мамочка нарисует! —приставали теперь неугомонные мальчуганы к матери возившейся около печки.
— Ну, хорошо, детки нарисую, когда управлюсь и когда пообедаем.
— А мне дашь красный карандаш? —приставал Коля.
— Дам, а теперь иди к Тате.
— А у меня свои карандаши есть. Я слона нарисую, вот увидишь какой будет слон; сейчас буду рисовать! — кричал Костя отбиваясь от сестры, не пускавшей его к столу.
К обеду пришел сосед, кавказец, ‘дядя Алек’. Больной, чахотный, но все еще жизнерадостный и живой, он вносил шум и веселье в однообразную, полную лишений жизнь своих соседей. В особенности скрашивал он детскую жизнь. С ним они, все трое, (даже Колю Лидия Андреевна не боялась с ним отпускать), ходили на рыбную ловлю или собирать бруснику. Раз осенью даже увидели следы медведя, забредшего из далекого леса, и с тех пор ходить по бруснику стало азартом для всех четверых: все хотелось поближе увидеть, каков из себя медведь. И много других радостей, детских и не детских, принес дядя Алек.
Как только он вошел, не успел еще снять шапку, как оба мальчика бросились к нему. Коля, не смотря на то, что был накутан и походил скорее на вьюк, ловко взобрался дяде Алеку на плечи. Костя держал себя более солидно; он только охватил кавказца за руку и не выпускал ее. Перебивая друг друга они осыпали его вопросами:
—Дядя, ты когда нибудь видел елочку и золотые орешки? и яблочки? Вкусные они? А апельсины ты ел? Они ростут на елочке?
На елках, братцы мои, растут только пустые шишки; а яблочки и апельсины ел, да еще сколько! У нас на Кавказе…—и он в тысячный раз принялся рассказывать этим заброшенным на далекий север детям о всех кавказских чудесах.
—Погодите, выберемся из этих гиблых мест; поедем туда, ко мне. И яблоки и апельсины и виноград, все, все у нас будет. Поедем туда, хорошо там будет.
—И золотые орешки, и елочки будут?—настаивали дети.
—Будет, все будет. —И, подумав немного, он хлопнул себя по боку.
—А
Взрослые так и обмерли, услыхав такое смелое, невероятное предложение. Дети-же запрыгали, захлопали в ладоши.
—Елочка, елочка будет, кричали они возбужденно.
Даже Наташа, знакомая со всеми трудностями их теперешней жизни, вдруг поверила, что это возможно. Глаза ея расгорелись и на минуту выразили полную уверенность, что такое чудо может свершиться. Но надежда так же быстро исчезла с ея лица, как и пришла.
—Не будет!—сказала она решительно.
—А вот, будет,—сказао так же решительно кавказец.
—Ну, где мы тут найдем, что нужно? Даже самой елки тут не найти,—возразила Наташа. И по мере того, как она высчитывала все, что требовалось для елки, лицо ея становилось все мрачнее и мрачнее.
Но дядя Алек решил, что б у д е т елка!
—Мы все заместим суррогатами,—говорил он—и елка
—Что такое суррогат?—спросила Наташа. Она всегда спрашивала об’яснения, когда чего-нибудь не понимала.
—Суррогат? Да мы тут одними только суррогатами живем, а ты не знаешь, что такое суррогат? Возьми хоть это окно—он взглянул на слепые окна; вот тебе суррогат: брюшина вместо стекла. Чай, какой-ты сегодня пила? Брусничный лист! Сама ты этот лист собирала и сушила, и вот тебе суррогат чая! —И он перечислял целый ряд их лишений в пище, в одежде и в хозяйстве, что все было суррогатом.—У нас и корова тоже суррогат,—закончил он дразня Наташу.—Олень вместо коровы!
—Ну, это уж извините, не хайте нашу Белушку,—заступилась за свою северную коровку Лидия Андреевна.—Молоко ее превкусное и нисколько не хуже русского коровьего.
Мальчики верили в обещание дяди Алека. Они заглядывали в его добрые, ясные глаза, требовали подробного описания ‘елочки’ и уже называли ее ‘наша елочка’. А дядя Алек, сам охваченный детской радостью, брал на руки, то одного, то другого и кружился вокруг табуретки, изображая из нее елку.
—И елки не найдешь, я наверное знаю, что не найдешь,—продолжала разочаровывать Наташа, и вдруг расплакалась.
—Перестань, Таточка,—говорила мать,—ведь…но она не договорила, отвернулась и снова стала возиться с горшками. Ее тоже давно душили слезы.
Отец, погруженный в свою работу, оставался безучастным к тому, что происходило вокруг. Он привык, живя в тесноте, уходить в свою работу, как
—Елочка будет,—сказал он;—я знаю место, где есть елки и сам принесу.
—Тоже суррогат?—спросила, уже смеясь, Наташа.
—Нет, настоящую принесу,—ответил отец.
—Это ты говоришь про те, что ростут здесь на болоте?—спросил дядя Алек.
—Папочка они такие кривые, уродливые, и на елку непохожи!—воскликнула Наташа. Она снова готова была заплакать при мысли об этих жалких, кривых, ползучих деревцах.
—Да кривые, уродливые,—сказал с горечью Григорий Савельевич,—как вся наша здешняя жизнь.
—А мы ее подопрем и выравняем,—воскликнул кавказец—и так будем вокруг нее плясать, что небу жарко станет. Не
Он подхватил обоих мальчиков разом и снова с ними завертелся. Лидия Андреевна с благодарностью посмотрела на него.
—Папочка, не надо ходить за елкой,—сказала Наташа, ластясь к отцу.—Сегодня страшно холодно, ты замерзнешь. А не то я с тобой пойду. Пойдем вместе, папуська?—говорила она, заглядывая ему в глаза.
—Я замерзну, а ты нет, моя девчурочка?
Завязался спор,—кто пойдет откапывать елку. Костя, конечно, сказал: ‘Папа, я пойду’. Но ему ничего не ответили. Серьезно-же обсуждали, пойдет ли Григорий Савельевич или кавказец? И решено было, что пойдет Григорий Савельевич, так как дядя Алек должен был идти добывать все нужное для елки: все те суррогаты, о которых он говорил. Вообще он один умел здесь находить вещи, о каких другие ссыльные и думать не смели. Сегодня, в особенности, он, и никто другой, мог этим заняться.
Лидия Андреевна уговаривала и мужа и кавказца оставить их затею. Лучше сидеть дома и устроить, после ужина, чтение.
—Но…будет у нас сегодня елка!—решено было обоими мужчинами.
И, пообедав, оба ушли. Кавказец с большим мешком; а Григорий Савельевич—с фонарем, лопатой, топором и ружьем. На дворе, конечно, стояла ночь: полярная ночь. Она началась уже с ноября месяца, когда солнце всего на мгновение выглянуло на юге
2.
Нужно было чем нибудь украсить елку. И вот, Лидия Андреевна с Наташей взялись за это. Лидия Андреевна когда-то недурно рисовала, даже акварелью. У нея и здесь был ящичек с красками. У Тани нашлись какие-то разноцветные лоскуточки, и обе принялись за работу. Костя и Коля. конечно, тоже уселись за стол. Оспаривая место для своих рисунков.
Из рук Лидии Андреевны стали выходить мастерски сделанные звезды, коробочки, цветы и всевозможные животные, невероятных цветов: зеленые коровы, лиловые собаки, невиданные птицы. Мальчиков привел в восторг слон с башней на спине, а оттуда выглядывала ярко-красная обезьяна и гримасничала.
Наташа в свою очередь шила из тряпочек куколки, флаги; ей даже удалось сделать подобие мышек, которые привели ее самою и братьев в восторг.
Лидия Андреевна работала молча. Мысли унесли ее в прошлое, в ее собственное детство. Как непохоже оно было на обстановку ея детей! Она вспоминала о тех елках, которые устраивались в ея детстве, в доме ея родителей, и о тех, на которые возили ее и брата к соседям помещикам. Какие сюрпризы им тогда готовила ‘Тетя Лида, любившая и баловавшая их еще больше, чем мать! Одно удовольствие за другим затевала она для них на святках. Счастливое детство Лидии Андреевны еще больше отмечало неприглядную, полную лишений, жизнь ея детей. По временам она отрывалась от работы и подолгу смотрела на свою убогую обстановку. Зимой дети мерзли; летом их заедали комары; и зимой и летом они голодали; кормились преимущественно рыбой, иногда даже без соли. Каждый раз, когда она думала о рыбе без соли, ее тошнило, и ей страшно жаль было детей. На Наташе ея взгляд останавливался особенно долго. Ей безконечно было жаль свою девочку.
Между тем жирник, которым освещалась изба, догорел (самодельных свечей из оленьего сала у Бекреньевых давно уже не было), и ей это напомнило, что было около четырех часов; значит, надо второй раз топить печь и варить ужин.
—На нижней полочке, другой жирник наполнен; зажги его, Таточка, сказала она Наташе.—Да что это наши молодцы так притихли?
—Спят, мамочка, давно уже спят: измарали целую кучу бумаги, да так и заснули над ней. —Мальчики, действительно, крепко спали, склонив головки над столом.
—Надо затопить, ты не замерзла? Я продрогла,—сказала Лидия Андреевна, ежась от холода и щупая руку Наташи.
—Который-то час? Должно-быть позже четырех, и папе пора бы давно вернуться, прибавила она. И вдруг, ей как-то стало не по себе. Муж ушел вскоре после двенадцати часов. До болот, где росли елки, мог быть час ходьбы, и обратно; а Григорий Савельевич отсутствовал уже часа три. Зайти к кому нибудь, он не мог, так как на пу- ти даже юрт не было. Ею вдруг овладела жестокая тревога.—‘Тьма! Мороз, пусгыня!’—думала она.—‘А вдруг он сбился с дороги: долго ли замерзнуть!’ —От последней мысли у нея ноги подкосились, она так и присела около дров, за которыми вышла в пристройку.
Наколотых дров не оказалось, и она вернулась в избу с пустыми руками. Между тем в избе становилось невыносимо холодно. Мальчики проснулись и плакали от холода, просили чаю и есть.
—Как же варить ужин? Что мы будем делать?—спрашивала Наташа.
—Поставь самовар, детка, и напейтесь чаю; там, кажется оставались еще лепешки и
Молоко оказалось замерзшим, а лепешек было всего две. Но Лидия Андреевна ничего на это не ответила Наташе. Она теперь стала безпрестанно выбегать на крылечко и прислушиваться, не хрустит ли снег, не идет ли Григорий Савельевич. Наконец, она не выдержала и передала свой страх за отца Наташе.
—Нет, мама; папа не заблудится,—возразила Наташа.—Он каждую звездочку на небе знает. Когда мы гуляем вместе, он мне говорит, какая звезда над нашим домом, и мы всегда по ней идем прямехонько и приходим домой. Нет, папа никогда не заблудится,—прибавила она с гордостью.
3.
Вдруг девочка испуганно взглянула на мать и спросила: —Мамочка, а там есть волки?
—Где, детка?
—А там, на болоте?
—Какие же там могут быть волки. Волки водятся в лесах, а тут на тридцать верст вокруг нет леса.
—А рыси есть?
—И рыси живут в лесах. В твоих книжках все это есть: ты, ведь, читала все это?
Но Наташа уже не слушала мать. Она отлично знала, что волки, медведи, рыси и разные другие хищники живут в лесах: но знала также, что голодные волки и рыси зимой иногда забегают далеко, и ее начала преследовать неотвязная мысль, что отец мог встретить стаю волков. Воображение рисовало ей, как отец отбивается от стаи голодных зверей. Она прижалась к матери и заплакала.
Но вдруг тонкий слух Наташи уловил какой-то шум на дворе; он слышался все ближе и ближе.
—Мама, это нарты к нам: верно кто-нибудь папу подвез,—закричала она, и лица у обоих просветлели. Обе выскочили в сени. Но вместо Григорья Савельича в сени грузно лез их знакомый якут,—Ахметка, как его звали политические ссыльные.
Это был гость, характерный для тамошней местности-Ахметка, зимой, а зима там длилась чуть не десять месяцев в году,—каждый день ездил в гости к
Ахметка был не навязчивый, не попрошайка. Наоборот, он об`езжал этих невольных поселенцев, как будто был местный хозяин, обязанный присмотреть за ними, помочь где можно работой, советом, и рассказать все новости ихнего края. Он, как всякий якут, знал все, что случалось верст на пятьсот вокруг, и ссыльные всегда рады были ему: ждали его почти также, как почту.
Приедет Ахметка и первым делом пойдет наколет дров, затопит печку, поставит самовар; а где нет самовара, вскипятит чугунку воды для чая. Все сделает, чего хозяин не доделал, (а были и такие, что в день приезда Ахметки, нарочно ничего не делали по дому). Кончив эту работу, он садился на лавку, поближе к дверям, и сидел молча.
Хозяин, или хозяйка заварят чай, поставит на стоп какое у них есть угощение, а Ахметка сидит, как будто внимания не обращает на то, что делается; на глаза
Ахмет очень любил ездить к Бекреньевым. Ему нравилась и чистота в избушке и весь хозяйственный строй этой семьи. Дети ого тоже очень привлекали и он был с ними в большой дружбе. Лидию Андреевну он особенно любил.—‘Много хорошо барн’, говорил он о ней. Он любил, что она называла его ‘Ахметушкой’, всегда благодарила за каждую работу и всегда спрашивала о его ‘старухе’.
Бекреньевы всегда принимали Ахмета очень хорошо; сегодня же ему особенно обрадовались.
Войдя в избу, он снял свой шушун и потоптался с минуту у порога. Он всегда это делал, ожидая приветствия от хозяев. Потом он долго рылся за пазухой и, наконец, вынул засаленную, измятую записку.—‘Середа борну’.—сказал он, подавая записку Лидии Андреевне.—‘Середа— ой, ой!’ Он ткнул грязным, толстым пальнем себе в рот, показывая на зубы и начал качаться во все стороны, изображая человека с зубной болью. Мимика выходила такая уморительная, что несмотря на грустное настроение, Лидия Андреевна и Наташа расхохотались. Смеялся и сам Ахмет. При появлении Ахмета пальчики перестели плакать, оживились, и теперь скакали около него.—А ну, покажи еще, как болят у Середы зубы!—тормошил его Костя.
Лидия Андреевна сообщила Ахмету свою треногу о муже.—‘Звер стреляет’, сказал он с уверенностью.
Да он вовсе не на охоту пошел—возразила Таня. —Он пошел на болото, за елкой. —А мальчики дергали Ахмета за рукав и кричали: что папа принесет ‘елочку’, и будут на ней яблочки и золотые орешки. Ахмет многого не понимал у этих людей, но всегда делал вид, будто все понял.
—Звер стреляет,—повторил он свое.—Ружье хорош у борн; ах, хорош ружье! —Этим он хотел сказать, что за ‘барина’ нечего бояться. Когда Ахмет говорил о ружье Бекреньева, он даже чмокал губами, облизываясь, точь в точь, как когда Лидия Андреевна давала ему что-нибудь вкусное.
Он, может быть, заблудился и может замерзнуть; надо итти искать его, —говорила Лидия Андреевна, ведя речь к тому, чтобы Ахмет шел на поиски.
—Ах! —отрицательно покачал он головой,-придет, чай будет пить! —Ахмету казалось, что ничто на свете не может задержать человека, когда предстоит пить чай. Он понюхал холодный воздух в избе и, ничего не говоря, сбросил доху и пошел колоть дрова.
Вскоре в печке запылал огонь, вскипел самовар, и Ахмет умело поставил его на стол. Он подоил оленя и на столе стояла большая крынка парного молока. Наташа пекла в горячей золе лепешки, (это была ея специальность), а Ахмет сидел теперь у дверей и предвкушал чай с горячими лепешками.
—Вот что, Ахметушка, —сказала Лидия Андреевна, —ты попей чайку; Тата, дай ему кусок сахар…а после чая зажжем фонарь и пойдем вместе искать барина
Ахмет ничего не ответил. Он пил свой чай медленно. Из двух лепешек, которые Наташа положила перед ним, он одну вместе с куском сахара положил за пазуху, говоря: ‘старуха’, т. е. жене. Он всегда так делал и всегда так говорил. Другую лепешку он откусывал маленькими кусочками, запивая горячим чаем, и пил чай, пока самовар не отцеживался досуха. Маленький кусочек лепешки он всегда оставлял и клал на донышко перевернутой чашки, —он видел, что так делали русские крестьяне с сахаром.
Лидия Андреевна, между тем закуталась, зажгла фонарь и ждала конца чаепития Ахмета. Сама она не села пить чай.
—Чтож, Ахметушка, идем, —сказала она, когда Ахмет кончил последний акт чаепития и вышел
— Вот ты, Ахмет, всегда говоришь, что любишь нас, и папу любишь, а вот папы нет, а ты не идешь его искать, —упрекнула его Наташа. —А папа замерзнет, и не будет у нас папы!… —При последних словах Наташа разрыдалась. Мальчики, услыхав, что ‘папы не будет', тоже заревели.
Плач детей и строгий взгляд Лидии Андреевны сильно смутили Ахмета; он решился, наконец, сказать, почему медлит итти на поиски.
—Худой человек бежал, —выговорил он. —Не хотел итти острог, бежал с дороги. Там облав. Начальник велел итти, —он ткнул себя пальцем в грудь и закачал головой отрицательно.
—Кто бежал?Какая облава? Где?—расспрашивала его Лидия Андреевна. Но только после долгих расспросов и окольных ответов Ахметки выяснилось, что кто-то из уголовных ссыльных бежал, и Ахметке велено было прибыть сегодня с оленем и нартой в сборную избу, а он раненько утром сбежал и теперь боится попасть на глаза начальству.
Он долго стоял среди избы молча. Потом вдруг подошел к мальчикам, молча погладил их по головке и улыбнулся Наташе широкой, доброй улыбкой, покачав ей приветливо головой; натянул затем по-крепче свой шушун на голову, надел доху и, отстраняя Лилию Андреевну от дверей, быстро вышел из избы. Лидия Андреевна вышла за ним.
—Не ходи, барна! Дома ребятишки, сиди, —сказал он безцеремонно толкая ее в избу. Ахмет один!
—А ты хорошо посмотришь, хорошо будешь искать? —сказала она, не подумав, что говорит.
В потемках нельзя было видеть лица Ахмета; но, по сердитому его голосу, она поняла, что нанесла ему обиду. —Иди изба! —сказал он, сердито вталкивая ее в избушку.
4.
Между тем Бекреньев, выйдя из дому, пошел прямо на северную звезду и быстро пришел к болоту. Снега там было мало. Гуляющий на просторе ветер не давал скопляться снегу в этой равнине. Многие кочки обозначались

—Стой сдавайся! —закричал незнакомый ставши теперь лицом к лицу перед Бекреньевым.
—Тебе чего нужно?—крикнул Бекреньев, стараясь освободиться из рук незнакомца. Но тот держал его железными руками.
—Сюда!—скомандовал незнакомец, и перед Бекреньевым откуда-то вынырнули три якута.—Вяжите! — был короткий приказ и якуты, с веревкой в руках, набросились на Бекреньева; шесть сильных рук его быстро скрутили.
—Туда ведите! — опять был дан приказ незнакомцем.
Сам он ушел с одним из якутов, унося ружье Бекреньева, а другие два якута повели куда-то своего пленника.
Все попытки Бекреньева узнать от якутов, куда ведут, и кто тот, кто велел им его связать его ни к чему не привели. Якуты были незнакомые и почти совсем не говорили по русски. Они вели его молча; старались даже поддерживать там, где были сугробы снега, чтобы он не упал. Шли они, по его мнению, не меньше семи или восьми верст, и, наконец, привели его в деревню, т.е. в то, что называлось в этой местности деревней. Всего тут было: две, три бревенчатые избы и несколько якутских Юрт. Место показалось Бекреньеву несколько знакомым. Подвели его к избе, которая тоже показалась знакомой, и он вдруг узнал деревню, которая была верстах в шести от его места, а изба была род полицейского участка. 3а два года своей ссылки в этих местах он каждый месяц должен был являться в эту избу, чтобы показать, что он на месте; тут-же он получал казенное пособие и почту.
Попавши в полицейский участок, Бекреньев немного успокоился… Теперь он знал по крайней мере, где он.—Но почему? Зачем?—Он решил, что кто-нибудь из политических ссыльных бежал, или что-нибудь натворил, и теперь их всех начнут подтягивать и переселять в еще более гиблые места. Он так был поглощен этой мыслью, что отнесся безучастно к тому, что якуты, развязавши ему руки, втиснули его, с его елкой за спиной, в холодную арестантскую и заперли двери на замок. Караулить его остался только один якут, служивший тут и немного его знавший.
Быть арестованным для Бекреньева было не ново. Со студенческой скамьи он много раз ‘сидел’. Сидел подолгу, сидел и по несколько часов, два раза был выслан на родину, и таким образом он несколько раз был оторван от своего ученья, так что медицинский курс продолжался для него около десяти лет. Потом, уже будучи человеком семейным и с докторской практикой, он просидел еще с половиной года и был стлан без суда в Иркутскую губернию. А оттуда, за бунт, его отправили сюда, на крайний север. Но здесь, в этом гиблом месте, он уже считал себя как бы застрахованным от дальнейших злоключений этого рода.
Первым делом он захотел дать знать жене о случившемся и он начал стучать в досчатую дверь.
—Позови сюда кого-нибудь, с кем можно разговаривать,—сказал он якуту, подошедшему к дверям,—и затопи печку. Тут тараканов морозить, а не людей держать!
Но слова его были в пустую. Якут знал по-русски одно: —‘карашо, бачка’ , а понимал якут еще меньше.
Холод между тем сильно стал мучить нашего заключенного; а тревога у него дома, которую он ясно себе представлял, мучила его еще больше холода. Он стучал, бранился, звал урядника (самое высшее начальство этой местности); но кроме якута, стерегшего его, никого не было; а тот неизменно отвечал: ‘карашо, бачка’.
Чтобы согреться, он стал ходить по камере и в темноте безпрестанно спотыкался на неровном полу: пол был весь покрыт примерзшей к нему разной дрянью.
Он пробовал еще стучать в дверь, но якут больше не подходил, как вдруг, в сени вломилась, судя по шуму, целая ватага народа. Слышался русский говор, крик, ругательства и гортанные звуки якутов.
—Ну, развязывай, чортов сын,—кричал русский; —вишь как затянул веревку! Руки совсем онемели!
—Не надо, барин, не надо,—уговаривал шумевшего один, вновь пришедший якут.—Иди, иди камера, начальник приказал.
За дверью камеры, где был заперт Бекреньев, произошла отчаянная борьба, и при этом раздавалась брань, чисто русская. Наконец, открылась дверь и два новых арестанта были втолкнуты в чулан, к Бекреньеву. Один запнулся и упал, другой зажег спичку, осветил камеру и вдруг залился отчаянным смехом.
—Савельич! —Он не мог дальше говорить и хохотал без удержу. Наконец выговорил:
—Савельич, да ты уж не модом оброс, а целым деревом! Давно-ли ты тут?
Бекреньев совсем забыл о том, что у него за спиной была привязана его елочка, которая и вызвала веселый смех нового арестанта. Хохотавший был Кузьма Хопун, политический ссыльный, близкий сосед Бекреньевых и старый друг по тюрьме и ссылке. Третий арестант оказался только что присланный молодой студент, поселившийся с Кузьмой. Кузьма представил его Бекреньеву:
—Иван Васильевич Орлов. Вчера прибыл из глухой провинции. Соскучился там и переехал к нам в столицу. Расскажи-ка, Савельич, как ты попал сюда, и зачем у тебя дерево привязано к спине? Он снова разразился хохотом.
Бекреньев дал ему успокоиться и рассказал об елке и как был арестован. —Представь себе, что, ведь у меня ружье пропало. Унес его тот самый негодяй, который меня арестовал.
Так это твое ружье мы видели у него? Он еще грозился застрелить меня, когда я брыкался и не давал себя связывать.
—Да кто ‘он’?
—А новый помощник урядника. Это он нас всех переловил, как зайцев.
—Где же он вас поймал?
—По дороге к тебе, Савельич. Сегодня ведь канун Рождества; ну, и шли к тебе и колядовать; а вот тебе засада! В проклятой, холодной кутузке! Хорошо еще, что, собака спьяна нас не подстрелил.
Чтобы хоть сколько нибудь согреться они топтались в тесном чулане, впотьмах натыкаясь друг на друга. Бекреньевская елка царапала двух других, и никому не пришло в голову отвязать ее и поставить в уголок.
—Ведь этак мы превратимся в мороженых гусей,—говорил Кузьма хлопая руками по бокам, как гусь крыльями.
—А полицейское зелье скушает нас,—прибавил Орлов.
—Ну, брат, тобой и мной не
Действительно, оба были длинные, худые, жилистые. Наташа даже назвала Кузьму ‘сухая вобла’, и это прозвище так и осталось за ним.
—Буду ломать двери,—решительно заявил Кузьма и начал стучать во всю мочь.
—Эй, ты! —закричал он якуту-сторожу, —топи печку, чортова перешница! Лампу давай; урядника зови сюда, а не то буду двери ломать! Он разбежался, насколько пространство чулана позволяло и сильно, всем телом, ударил в дверь. Но дверь не поддалась. Якут, сидя на корточках у дверей, спал крепким сном, громко храпел и еле шевельнулся после удара в дверь.
—Поналяжем, братцы, выбьем эту пакость,—предложил он. Но Бекреньев и Орлов воспротивились этому предложению.
—Подождем еще немного,—уговаривал его Бекреньев.
—Помнишь наш последний бунт в предварилке?—припомнил Кузьма.
—Как не помнить!—ответил Бекреньев.—Два выбитых зуба еще не выросли!
—Да, брат, не на седьмом году твоей жизни это случилось! —и Кузьма сам расхохотался над своей остротой.
Тишина кругом и мысль, что им, может быть, придется провести ночь в этой ‘холодной’, начала сильно действовать на нервы. Тогда уже все трое, налегли на дверь, решившись выломать ее, и, если не уйти, то хоть перейти в топленную половину избы.
Дверь уже стала поддаваться под их дружным натиском, когда они услышали, что снова кого-то притащили. Опять борьба, ругань!…
—Застрелю! — кричал хриплый, пьяный голос, похожий на тот, который Бекреньев уже слышал, когда его заарестовали.
—За что взял? За что бил? Зачем ты взял мой мешок? Отдай сейчас мешок! —кричал другой, сердитый голос.
—Да, это наш князь! —сказал Кузьма, прислушавшийся у дверей, —и его не миновала чаша сия? Ну, задаст он ему!
—Да, с кавказцами потруднее справиться, чем с нами россиянами, —с грустью заметил Орлов.
—Давай мой мешок! —кричал, не переставая, кавказец. Это, действительно, был он. При этом он так грозно размахивал своей толстой, сучковатой палкой, что никто не смел близко подойти к нему.
В это самое время раздался еще голос, тоже знакомый Бекреньеву и Кузьме,—голос местного урядника.
—Это что значит? зачем он тут? —закричал он на
—Мешок мой пускай отдаст; этот разбойник взял мой мешок, и ружье у него —господина Бекреньева. Я сейчас узнал ружье, —кричал, в исступлении, дядя Алек.
В тоже время заключенные в чулане начали снова стучать в дверь.
—А там кто?—грозно спросил урядник.
Дверь, наконец, отворилась, и наши знакомые предстали перед урядником. Он знал их всех в лицо, и Бекреньев со своей елкой за спиной опять вызвал общий смех.
—Так вот кого ты наловил? -восклицал хохоча урядник. —Ах, ты…такой-сякой!…Ну, я с тобой расправлюсь за твое усердие, —кричал он на испуганного помощника, у которого и хмель пропал с испуга.
—А вас, господа, прошу меня не винить в причиненной вам неприятности. Облаву мы сегодня делали не на политических, а ловили беглого, важного уголовного. Этому подлецу ясно было сказано в предписании исправника, кого надо изловить. Все приметы были описаны…
—Вы бы кстати снабдили его электрическим фонарем, чтобы сверять приметы,—иронически заметил Бекреньев. —Прикажите вернуть мне мое ружье,—прибавил он. Сборная изба, между тем, наполнялась разным народом. Больше всего якутами. Появился и Ахмет. Увидя своих друзей, он протолкался к ним. Забыв свой страх перед начальством, он хватал их поочередно за руки и твердил: ‘Пятница, Середа, два Середа!’—‘Два Пятница’ говорил он, ласково глядя то на Бекреньева, то на дядю Алека. Кончилось, наконец, тем, что заарестованные стали защищать помощника и якутов, и, захватив с собой Ахмета, отправились к Бекреньеву не пешком, а в санях урядника с теми же якутами, которые их ловили и вязали.
5.
После ухода Ахмета Лидия Андреевна вдруг притихла. Она, как была одета для поисков, так и осталась, даже фонарь не погасила. Она села на скамейку у дверей, и все ея мысли унеслись туда, в снежное поле, где она видела своего мужа, как на яву, то замерзающим, то в борьбе с бежавшим бродягой. С тех пор, как Ахмет ей сказал, что бежал уголовный, она все больше и больше начинала бояться, как бы муж не встретился с этим бродягой.
—Чтобы лучше скрыться, бродяге нужно переодеться… —Она вся похолодела, при мысли, что бродяга не задумается убить встречного, чтобы воспользоваться его одеждой и всем другим, что найдется у прохожего.
Наташа, уложив братьев спать и наплакавшись до изнеможения, прикорнула около матери на узкой скамейке и крепко спала. Кругом была мертвая тишина; Между тем, жирник снова догорел.
Лидия Андреевна, чтобы не разбудить Наташу, сидела, не шевелясь, и впотьмах мрачные ея думы были еще мрачнее. Что жирник догорел, указывало также на то, что прошло немало времени со времени ухода Ахмета. Теперь она уже была уверена, что случилось какое-нибудь несчастье.
Но вот, в этой тишине послышались голоса, много голосов и скрип саней; и то и другое раздавалось все ближе и ближе. Лидия Андреевна с замиранием сердца прислушивалась к голосам. Вдруг ей стало еще страшнее прежнего. Она не решалась сойти с места и выйти навстречу… —‘А вдруг?’…—Ужас ее охватил: даже мысленно была страшно договорить… Но нетерпение взяло верх. Что бы ее ни ожидало, она пойдет навстречу; слишком жутко ждать, пока придут к ней.
Она тихонько приподняла Наташину головку со своих колен, положила ей под голову шаль и выбежала в сени. Но там там
В избушку ввалились все освобожденные и Ахметка с ними.
Отогревались долго. Пили чай, ели строганину из мерзлой рыбы и опять пили чай; при чем Ахмеда принимал усердное участие и в том и в другом: после чая, его слабость была строганина из рыбы, присыпанная солью и перцем. Разговор, конечно, шел все о событиях дня.
—Но где ты-то был все время, пока нас морозили? —спрашивали кавказца.
—Пари держу, —сказала Лидия Андреевна —в шашки и играл с батюшкой Аполинарием.
—Точно, играл,—винился кавказец.
—А сколько ему проиграл?—иронически спросил Бекреньев.
—Сегодня ничего не проиграл. Батюшка и матушка были трогательно любовные к нам безбожникам. В особенности матушка. Она все сокрушалась о наших детях. —‘Мало радости они тут видят’,—говорила она. А когда я сказал, что мы затевали устроить им елку, она очень одобрила, и пока мы с батюшкой дулись в шашки, матушка куда-то исчезла, открыла свои сокровищницы, и вот увидите, какие чудеса в этом мешке. Все от матушки Ермионы Ивановны. Даже сама хотела ехать сюда; но я
—Ты-то ты как свой мешок оспаривал у полицейского зелья,—подшутил Кузьма. —А уж, как ему не хотелось его вернуть!…
—Дядя, покажи, что в мешке,—приставала Наташа.
—Подожди, не теперь; все увидишь, все увидишь,— говорил дядя Алек, ласково отстраняя девочку от своего сокровища.
—Что меня, господа, удивило,—заметил Орлов,—это отношение к вам урядника. Ведь он тут старшее начальство. Извиняется перед ссыльными, грозит расправиться со своим помощником
—Тут, брат, есть несколько причин, об`яснил Кузьма. —Первая, наш Савельич лечил тут во время оспенной эпидемии, и в районе нашего урядника было меньше всего смертей. Ему даже дали за это какую-то награду.
—А во вторых, перебил его Бекреньев, наш князь с ним в большой дружбе… При последних словах Бекреньева, Кузьма и сам дядя Алек дружно рассмеялись.
—В чем дело?—спросил озадаченный Орлов.
—А вот, пусть он сам вам расскажет, —заметила Лидия Андреевна.
—Ну, зачем? Ничего…говорил смущенный кавказец.
—Ладно; тогда я расскажу, я ведь был при этом,—отозвался Кузьма. —Возвращались мы втроем с рыбной ловли. Савельич, князь и я. Улов был знатный. Только причалили мы лодку, а урядник тут как тут; подошел к нам, даже не поздоровался, облюбовал самую большую кету и уже бесцеремонно поднял ее вверх, чтобы вытащить и взять себе, как он это постоянно делает со всеми, —как вдруг увидал он пару черных, горящих глаз, устремленных на него. Наш урядник обомлел; рыба выпала у него из рук обратно в лодку. —‘Я пошутил, пошутил’,— стал он оправдываться, и собрался уходить. Тогда наш князь, вежливо вернул его и преподнес ему ту самую рыбину, говоря: ‘На, возьми, а сам, смотри, брат, не бери!’… Мы думали, что собака будет мстить; а он, оказывается, с тех пор необычайно предупредителен, в особенности с князем.
Дядя Алек улыбался, гладя свою черную бородку. —Вежливости его научил; за то и благодарен,—прибавил он.
—Да он знал еще, что в кармане у учителя вежливости имеется кавказский нож,—заметил в свою очередь Бекреньев.
Самовар еще раз был подогрет, рыба снова настрогана, и разговор грозил перейти, как всегда, на мировые вопросы, если бы не вмешалась Наташа, сидевшая в углу с книжкой. Она громко, со слезами в голосе, вмешалась в разговор.
—Все вы говорите, говорите! А когда елку будем убирать?—спросила она.
Мать строго посмотрела на Наташу: ей запрещалось полное обращение со взрослыми; но дядя Алек поддержал девочку.
—И в самом деле!—воскликнул он;—елочка, героиня дня, стоит в углу. Посмотрите, как она грустно опустила свои веточки, и мешок, со всеми сокровищами, лежит уныло.
—Прибавь: сокровища матушки, Ермионы Ивановны!—воскликнул, смеясь, Бекреньев.—Шутки в сторону, прибавил он,—за елку, господа.
Оттаявшую елочку вделали в чурбанчик, подперли ее опущенные ветки, и, к большой радости Наташи, она вышла совсем стройненькая.
Дядя Алек, наконец, развязал свой мешок. Наташа, заглянув в него, запрыгала от восторга; дядя Алек предоставил ей выгружать его содержимое. Она же скакала и взвизгивала от восторга, вытаскивая оттуда то сладости, то украшения. Своим восторгом она заражала всех.
—Ай да матушка, Ермиона Поликарповна,—кричал Кузьма, хлопая в ладоши, подражая Наташе.
—Ивановна, вобла!—поправила его Наташа, обижаясь за матушку.
Ахмет стоял около мешка, как заколдованный, он забыл про чай, (самовар далеко еще не был выпит), про строганину, и раскрыл рот от удивления, увидав у Наташи игрушечный фонарик из ярко красной и зеленой фольги, так и остался стоять, пока мешок не был опростан. Потом он сел на корточки около кучки этих сокровищ и в немом восторге смотрел на яркие фольговые и стеклянные елочные украшения, на затейливые, тоже яркого цвета, сахарные фигуры и прочие редкости.
Елку украшать дозволено было немногим. Наташе, Лидии Андреевне и дяде Алеку. Прочих не допускали.
Когда все было навешено, и настоящие восковые свечечки были налеплены, Лидия Андреевна попросила отодвинуть стол к стене, а табурет с украшенной ‘елочкой’ был поставлен посреди избы и покрыт простынькой. Ахмет, наконец, пришел в себя и стал помогать Лидии Андреевне убирать со стола.
Наташа разбудила братьев. От слов сестры: ‘будем зажигать елочку’— мальчики быстро проснулись. Они были умыты, одеты и накормлены за занавеской, а в это время зажгли на елке свечки. Тогда захлопали в ладоши: это был сигнал Наташе выходить.
Детям представилось такое зрелище, что они пришли полный восторг; а с ними вместе, в восторг пришли и взрослые.
С каждой веточки глядело что-нибудь, восхищавшее детские глазки: тут были мятные пряники, грецкие орехи в серебряной бумаге, шептала висевшая на золотых ниточках, а на ветках качались крендельки, посыпанные разноцветным сахаром. Всего не перечесть! Особенный фурор производили сахарные, танцующие пары в ярких одеждах и гримасничавшие клоуны.
Вокруг ‘елочки’ не очень много было простора. Но, сомкнувшись в тесный круг, все, и Ахмет тут же, плясали и кругом пели, на этот раз что-то веселое, удалое.
‘Елочка’ надолго осталась ярки воспоминанием у этих детей, заброшенных за полярный круг.
Теперь они в Москве и видели уже немало елок, украшенных по-московски. Но лучше всех им вспоминается их П о л я р н, а я Е л о ч к а.
1922
